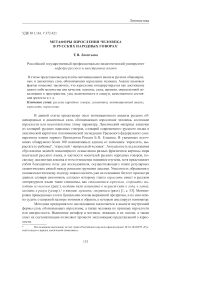Метафоры взросления человека в русских народных говорах
Автор: Леонтьева Татьяна Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты мотивационного анализа русских общенародных и диалектных слов, обозначающих взросление человека. Анализ языковых фактов позволяет заключить, что взросление интерпретируется как достижение какого-либо количества или качества: полноты, силы, времени, определенной локализации в пространстве, ума, включенности в социум, качественного состояния зрелости и т. д.
Русские народные говоры, семантика, мотивационный анализ, взрослеть, взросление
Короткий адрес: https://sciup.org/146121880
IDR: 146121880 | УДК: 811.161.1’373.421
Текст научной статьи Метафоры взросления человека в русских народных говорах
В данной статье представлен опыт мотивационного анализа русских общенародных и диалектных слов, обозначающих взросление человека, состояние взрослости или несоответствие этому параметру. Лексический материал извлечен из словарей русских народных говоров, словарей современного русского языка и лексической картотеки топонимической экспедиции Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В указанных источниках обнаружено более 100 номинативных единиц со значением ‘взрослеть, вырастать (о ребенке)’, ‘взрослый / невзрослый человек’. Актуальность исследования обусловлена задачей планомерного осмысления разных фрагментов картины мира носителей русского языка, в частности носителей русских народных говоров, поскольку диалектная лексика в этом отношении наименее изучена, хотя представляет собой благодатное поле для исследователя, осуществляющего поиск регулярных семантических связей между разными группами лексики. Уместность обращения к ономасиологическому подходу можно оценить уже на основании беглого просмотра данных словаря синонимов, согласно которому глагол взрослеть имеет в русском литературном языке такие синонимы, как становиться взрослым, созревать ; выходить из пеленок (разг.); входить (или вступать ) в возраст (или в года, в лета ) , входить в разум (устар.) / о юноше: мужать; оперяться (разг.) [1, с. 53]. Мотивировки приведенных слов и буквальная основа выражений прозрачны, и по ним можно судить о широкой палитре мотивов и образов, к которым апеллирует номинатор.
Методика предпринятого исследования заключается в анализе внутренней формы слов, обозначающих взросление, а также человека по признаку взрослости или невзрослости. Выявление метафор и мотивов, лежащих в их основе, а также опыт их систематизации позволяют провести экспликацию представлений о взрослости.
Предваряя мотивационный анализ семантическими заметками, укажем, что интересующее нас значение ‘взрослеть’ нередко приходится выявлять на основе контекстов, поскольку дефиниции, представленные в диалектных словарях, далеко не всегда содержат упоминание этой семы. Мы сталкиваемся также с трудностью различения значений ‘взрослеть’ и ‘вырастать’. Нужно ли их разделять? Некоторая смысловая дистанция между ними, конечно, присутствует. В частности, вырастать – значит, прежде всего, становиться физически крупнее, в то время как взрослеть означает приобретать не только физиологическую зрелость, но и психологическую, и социальную. Естественно подразумевать разносторонность этого возрастного изменения, поэтому в дефинициях идентификаторы ‘взрослеть’ и ‘вырастать’ часто соседствуют. Если же толкователь выбирает только один из них или иным образом формулирует определение, то для решения вопроса о том, принимать ли во внимание данный номинативный факт, можно опереться на контекст, если он приводится.
В ситуации многосторонности возрастных перемен, происходящих с человеком, вполне закономерно, что номинатор выбирает и ставит на первое место лишь один из аспектов изменений в человеке, то есть отдает предпочтение той или иной мотивировке. Выделим и представим далее семантические модели, среди которых есть основанные на метафоре. Перечислим модели, распределив их на группы в соответствии с мотивами, каждый из которых отражает существенный признак, основание семантического переноса.
Размер . Семантическая модель ‘приобретать другой размер, становиться больше, выше, толще’ – ‘взрослеть’ является одной из самых продуктивных. К ней принадлежат ключевые слова рассматриваемого ряда, прежде всего лексические факты литературного языка: взрослеть ‘становиться взрослыми’ [18, т. 2, с. 321], расти ‘становиться больше ростом, длиннее, выше, увеличиваться в результате жизненного процесса; || становиться старше, взрослее, развиваться’ [Там же, т. 12, с. 894], вырастать ‘увеличиваться в росте, становиться больше, выше, длиннее; расти, возрастать; || становиться взрослым, достигать зрелого возраста’ [Там же, т. 2, с. 1190]; взрослые, старшие, большие [1, с. 53], литер. большой ‘взрослый, старший (с точки зрения ребенка)’ [8, с. 329], литер. взрослый ‘человек, вышедший из юного возраста, достигший зрелости’ [Там же], литер. старший ‘человек, имеющий большее количество лет в сравнении с кем-н., а также взрослый’ [Там же, с. 331].
В русских народных говорах к выражению смысла ‘взрослеть’ тоже привлекаются производные от расти, большой, старый : волог. посталéе и постарее ‘о человеке, который с годами становится лучше: красивее, взрослее, умнее’ ( Поста-лее и постарее, скажем. Полутше у его и внешний вид, и поведение ) [5], пск., смол. вы́ рослый ‘выросший, большой; взрослый’ ( У него дети уже вырослые ) [16, т. 5, с. 342], смол. большуны́ ‘(собир.) взрослые’ [Там же, т. 3, с. 93], свердл. большýха ‘большая, взрослая (девочка, девушка)’ ( Ты уж большуха в школе-то учиться ) [Там же] и др.
По данным этимологического словаря, слово старый родственно лит. stóras ‘толстый, объемистый’, др.-исл. stórr ‘большой, сильный, важный, мужественный’, с другой ступенью вокализма: др.-инд. sthirás ‘крепкий, сильный’ [20, т. 3, с. 747].
Глагол расти происходит от праслав. * orsti, *orstǫ , которое сближают, с одной стороны, с греч. ὄρμενος ‘росток, стебель’, ὄρνῡ μι ‘возбуждаю, двигаю’, лат. orior, ortus ‘поднимаюсь, встаю’, с другой стороны, сравнивают с лат. arduus ‘высокий, крутой’, авест. ǝrǝδva - ‘тугой, прямой’, др.-ирл. аrd ‘высокий’ и др. [Там же, с. 446].
Противоположный семантический полюс представлен соответственно строго обратной метафорой: литер. недоросль ‘в России в 18 веке юноша из дворян, еще не достигший совершеннолетия и не поступивший на государственную службу, вообще (устар.) несовершеннолетний’ [8, с. 331], печор. недорóщенный ‘не достигший совершеннолетия’ [13, с. 472], костром. невелúкий ‘невзрослый’ ( В то время я еще невелúка была ) [6] и др.
Время. Лексические воплощения представлений о взрослении закономерно апеллируют к временны́ м смыслам. Чаще всего номинатор прибегает к наименованиям временны́ х отрезков – годы, лета . При этом реализуются два направления концептуализации взросления.
С одной стороны, передается смысл накопления количества лет, накопления прошлого: печор. годá набрáть ‘повзрослеть, достичь совершеннолетия’ [21, т. 1, с. 174], печор. забрáть своú гóды ‘достичь совершеннолетия’ [13, т. 1, с. 218]. В лексических фактах, принадлежащих русским народным говорам, реализована метафора полноты, отсюда обращение номинатора к основам полный и ёмкий : перм. ёмкий ‘достигший поры зрелости, взрослый’ ( Ёмкая она – взамуж пора ) [11, т. 1, с. 248], перм. прийтú в пóлный вóзраст ‘стать совершеннолетним’ [Там же, т. 2, с. 207], печор. неполнолéтний ‘несовершеннолетний’ ( Нынь неполнолетним не выдают паспорта ) [13, т. 1, с. 476], смол. супóлный ‘зрелый, возмужалый (о человеке)’ ( По истечении девяти лет жених и невеста становятся суполные люди ) [16, т. 42, с. 252]. Тот же смысл полноты передается словом совершенный , которое выступило источником семантической деривации для новосиб. совершéнный ‘совершеннолетний’ ( Детишки-то и совершенные ) [14, т. 4, с. 371], перм. совершéнный ‘зрелый, совершеннолетний’ [11, т. 2, с. 367], том. совершéнство лет ‘совершеннолетие’ [14, т. 4, с. 371], литер. совершеннолетний ‘человек, достигший совершеннолетия’ [8, с. 331]. Номинации, выражающие противоположный смысл, интересны тем, что могут обозначать через посредство мотива «несовершенный» как период детства (в литературном языке), так и период старости (в говорах): литер. несовершеннолетний ‘человек, не достигший совершеннолетия’ [Там же], перм. несовершеннолéтний ‘выживший из ума от старости’ ( Старуха-то у меня выжила из ума, несовершеннолетняя, старая уже ) [11, т. 1, с. 593]. Итак, номинации из сферы «Взросление и взрослость» закономерно создаются с опорой на знание о том, что время дискретно, единицы времени поддаются счету, а взрослость – это накопление прожитых лет.
С другой стороны, в речи диалектоносителей регулярно воплощается мотив перемещения и вступления в определенный период на векторе времени: печор. в годá (гóды) войтú (прийтú) ‘повзрослеть, стать совершеннолетним’ [21, т. 1, с. 66], волог. зайтú в гóды ‘повзрослеть, перестать быть ребенком’ ( Уже не мальчик, уже зашел в годы, а всё баловесничат ) [10, т. 4, с. 75], ряз. взойдúть (зайдить, войдить) в (совершенные) года ‘стать взрослым’ [19, с. 117], печор. в летá войтú / вы́ йти ‘повзрослеть, возмужать’ ( В лета вошёл парнишко-то наш, школу кончат; Он уж вышел в лета, осенью пойдёт в армию ) и ‘достичь зрелости, расцвета – говорится о мужчинах двадцати пяти-сорока пяти лет’ ( А как Данило вошёл в лета, то взяли бурлаком ) [21, т. 1, с. 83].
Специфику диалектного дискурса составляет использование гиперонимов время, пора, возраст, которые, обладая в литературном языке семантической «широтой», неопределенностью обозначаемых ими временных границ, в русских народных говорах приобретают возможность семантической конкретизации. При отсутствии идентификатора, указывающего, о каком именно возрасте или временном отрезке, о какой поре идет речь, говорящий подразумевает не отвлеченную умозрительную категорию времени в целом, а именно ограниченный период взрослости: том., кемер., иркут. в вóзраст дойтú ‘стать совершеннолетним’ (В возраст дошел, нас брали в армию; Бывало, как девка в возраст дойдет, жениха ей ищут; Сын мой в возраст дошел, паспорт получил) [22, с. 62], печор. до вóзраста ‘до определенного возраста, до совершеннолетия’ (Молодым не разрешали гулять рано, до возраста нам не разрешали с парнем под ручку пройти; Не гуляй, Марфа, с парнями до возраста) [21, т. 1, с. 210], перм. в пóру войтú ‘достичь совершеннолетия, стать взрослым; возмужать’ (Пацаночкой была ишо, токо в пору вошла, отошла от родителей; Мне не жалко, пущай женится, давно в пору вошел) [11, т. 1, с. 113], новосиб. дожúть до вóзраста ‘стать взрослым’ [22, с. 62], печор. вы́ йти на вóзраст ‘повзрослеть’ (На возраст вышла да взамуш ушла) [13, т. 1, с. 105]. В этом же ключе, в направлении сужения семантики, развивается деривация слова пора: ср.-урал. вы́ пореть ‘вырасти, созреть’ [16, т. 5, с. 331]. Говоря о слове пора и других подобных лексемах семантической области «Время», Г. В. Калиткина справедливо подмечает «деятельностную составляющую темпоральных концептов». В частности, пора «оказывается подходящим (пористым, порастым, удобным, (при)годным, годейным, угожим, негожим) периодом для неконкретизированных действий, вместилищем некой деятельности вообще» [4, с. 24]. Действительно, взрослость трактуется прежде всего как полноценная, самостоятельная деятельность человека в новом социальном качестве (в юридическом дискурсе это называется дееспособностью).
Внутренняя форма «самое время» или «вся пора», выявляемая в свердл. са-мовремя́нной ‘нестарый, в расцвете лет’ ( А щё ей не гулять, еще самовремянная женщина ) [15, т. 5, с. 107], костром. во всей порé ‘в полном расцвете: о зрелом, взрослом человеке’ ( Я девчушка была, восемнадцать лет, а ему двадцать пять лет было, он-то уж во всей поре был. А я ничего не понимала, как баран на градусник. Теперь-то уж поняла бы ) [6], выражает важную в представлениях о взрослости идею кульминации, жизненного пика, максимального подъема.
Пространство. Поскольку пространственные и временные смыслы обычно находятся во взаимной проекции (неслучайно категории времени и пространства объединены понятием хронотопа), то движение во времени концептуализируется как движение в пространстве. Приближение к временнóй демаркационной линии обозначается лексемой, описывающей движение: перм. дойтú ‘выйти в люди, зажить нормальной жизнью’ ( Сама раз не дошла до людей, дак хоть дети в грязь лицом не уронили – хорошо живут, все выучились ) [11, т. 1, с. 221]. В других зафиксированных языковых фактах глагол движения ( войти, прийти, зайти, дойти, взой-дúть, зайдúть, войдúть ) образует сочетание с наименованием единицы времени или абстрактной временнóй категории ( годы, лета, возраст, пора ).
«Локализация» взрослости «визуализируется» посредством слова место , включенного в состав фразеологизма: перм. к мéсту вы́ йти ‘определиться в жизни, стать самостоятельным’ ( У меня все робята к месту вышли, все робят хорошо, не пьют, не курят ) [Там же, с. 137].
Можно говорить еще об образе выбора своей дороги, хотя дефиниции таких номинаций редко содержат отсылки к понятию взрослости: перм. в путь пойтú ‘обрести самостоятельность’ ( А когда в путь пошла, работать стала ) [Там же, т. 2, с. 143], ср. общенар. непутевый .
Мощь, работоспособность. В прагматическом смысле взрослость связывается в крестьянской культуре в первую очередь со способностью работать (перм. ра-бóта ‘период трудоспособности в жизни человека’ (Чтобы это при работе было – не помню) [Там же, с. 255]), а детство и старость репрезентируются как периоды немощности, недостатка силы.
Ср. разделение семьи на работников и едоков: волог. ватáжник ‘взрослый член семьи, работник’ ( Он у нас уж ватажник; А много ли ватажников-то у Алексея Оникова? ) [16, т. 4, с. 69], волог. ватáга ‘о взрослых членах семьи’ ( У нас ватага не велика – то есть мало работников) [Там же, с. 68], нижегор. óбъедь ‘большая семья, особенно малый и старый’ [3, т. 2, с. 656], смол. подъéдок ‘ребенок, который уже много ест, но еще не может работать’ [16, т. 28, с. 261], диал. [б/у места] объéд, объедáтель, объедáльщик, костр. объедýн ‘кто объедает других, дармоед’ ( Работников-то мало, а объедателей много – дети еще малы) [3, т. 2, с. 656]. Дети еще не могут, а старики уже не могут, в отличие от взрослых, работать в полную силу: перм. из годóв (из лет) вы́ йти ‘достигнуть возраста, когда человек становится нетрудоспособным’ ( Я уж из лет вышла, а всё живу, кончилась уж жись моя; В апреле-то мне 55, дак из годов выйду, а пензию-то не заробила, колхоз-от не считается ) [11, т. 1, с. 136].
Поэтому взросление концептуализируется как приобретение физических сил и способности зарабатывать себе на хлеб, обеспечивать себя и семью: смол. могýчий ‘взрослый, самостоятельный’ ( Ён уже магучий, сам усё можыть делыть ) [17, т. 6, с. 102], перм. уйтú на свой хлеб ‘зарабатывать на жизнь самостоятельно’ ( Пятеро у меня робят, теперь все ушли на свой хлеб, а мне уж не посылают, хоть как кормися тут ) [11, т. 2, с. 470].
Социум. Взросление имеет одной из сторон вхождение в социум, приобретение места в нем. Конечно, человек с рождения уже присутствует в общине, однако традиционное крестьянское сознание, как уже было сказано, отказывает ребенку в самостоятельности, видит в нем «едока», но не «работника». Взросление же подразумевает приобретение статуса единицы социума – значимой, самостоятельной, трудоспособной: карел. в лю́ дях (быть) ‘иметь самостоятельность, прочное положение в обществе’ ( Вот одного доростить осталось, остальные в людях ) [12, т. 3, с. 169], брян. вы́ люднеть ‘вырасти, развиться, стать похожим на других’ [7, с. 71], печор. в лю́ ди гóден ‘кто-либо вырос достойным человеком, не хуже, чем другие’ ( Одна детей ростила, но они все в люди годны, работящие, дружные, ей все помогают ) [21, т. 1, с. 85]. Отсутствие социального положения, то есть социальная несостоятельность, получает выражение во внутренней форме ленингр. никтó ‘тот, кто по возрасту не имеет определенного социального статуса ( Это было, когда я еще никто была, маленька значит ) [12, т. 4, с. 26].
На включение в общественную жизнь указывает упоминание в дефинициях признаков ‘начавший работать’, ‘самостоятельный’, ‘живущий отдельно от родителей’, а на уровне мотивации – привлечение слова люди : перм. в лю́ ди уйтú ‘уйти из родного дома работать где-л.’ ( Всего пять классов кончил сын-от, рано в люди ушёл, на кирпичный ) [11, т. 2, с. 469].
Образно взросление может осмысляться также как «передача» ребенка чужим людям, ср. включение в состав фразеологизма причастия от глагола раздать : новосиб. дéти раздáты ‘самостоятельно и отдельно от родителей живущие дети’ ( Все уж дети раздаты, взрослые, сами живут, только что в гости едут ) [14, т. 4, с. 96].
Интеллектуальная способность. Ономасиологический подход к анализу лексики взросления и взрослости выявляет примеры реализации во внутренней форме слов семантической оппозиции «ум – глупость»: перм. глýпенький ум / в глýпом умé ‘о человеке, не достигшем зрелого возраста’ (Он у нас хоть ишо глупенькой ум, молодой ишо, а ничё плохого никому не делал; Были ишо в глупом уме, девчатами ишо были, дак едак играли) [11, т. 2, с. 472], печор. в умé быть ‘быть в уже достаточно зрелом возрасте’ [21, т. 1, с. 114], перм. в умé ‘в зрелом возрасте’ [11, т. 2, с. 473], ряз. в своём умé кто-л. ‘кто-л. вырос, стал взрослым и может самостоятельно принимать решения, здраво рассуждать’ (Будеть двадцать лет, ето уж говорять, в своем уме, должен сам понимать) [16, т. 36, с. 316] и др. Это весьма устойчивый способ языковой концептуализации разных возрастов человека, актуализирующий представления, конечно, не о способности размышлять, а о благоразумии, рассудке, предопределяющем поведение человека.
Устойчивость. Актуализированный в лексике взросления мотив приобретения физической силы, крепости, получающий воплощение в словах, внутренняя форма которых указывает на телесное развитие (рост, увеличение размера), реализуется также в метафоре вставания на ноги: тюмен. встать на твёрдую нóгу ‘стать самостоятельным’ [Там же, т. 43, с. 323], перм. сметáться на ноги ‘повзрослеть, стать самостоятельным’ [11, т. 2, с. 357], арх. змотáться нá ноги ‘повзрослеть, «встать на ноги»’ ( Змоталась я на ноги, пятнадцать-то годов, меня работать отправили ) [10, т. 4, с. 272]; вероятно, сюда же перм. взмотáться ‘стать самостоятельным’ ( Дети у меня взмотались и разъехались ) [11, т. 1, с. 99]. Очевидно, эта метафора происходит из представлений о том, как растет ребенок. А.К. Байбурин, комментируя обряды, символизирующие преобразование «новорожденный > человек», в частности, ритуалы, связанные с появлением зубов, ростом волос, ногтей, вставанием ребенка на ноги, говорит следующее: «У восточных славян признак твердости / мягкости по отношению к новорожденному является определяющим: взросление мыслится как отвердение тела, укрепление его костей (само слово младенец обнаруживает при его этимологическом анализе такие значения, как ‘мягкий’, ‘нежный’, ‘слабый’)» [2, с. 54]. Под устойчивостью взрослеющего человека подразумевается, конечно, не физическая сила, а социальная состоятельность: появление семьи, работы, достатка. Нам кажется важным отдельно указать на мотив приобретения устойчивости, оформленный посредством метафоры, апеллирующей к одному из этапов развития ребенка, хотя в целом в лексике взросления репрезентированы и другие составляющие образа ребенка или детеныша.
Этапность развития в жизненном цикле высокоорганизованных существ. Наблюдения человека за миром растений и животных всегда дают богатую почву для ассоциирования, соотнесения с жизнью людей. В случае с языковой концептуализацией взросления естественно ожидать обращения номинатора к рубежным моментам в развитии живых организмов.
Растительная метафора присутствует в лексике взросления в виде образа цветения: литер. в расцвете лет ; омск. сáмый светóк ‘во цвете лет, сил’ ( Он-то погиб. Самый светок, 31 год сполнился ) [14, т. 4, с. 252] (вспомним, что следующий этап – старение человека – концептуализируется как увядание).
Зоологическая метафора весьма активна в лексике взросления человека. Анализ лексем и фразеологизмов позволяет реконструировать прежде всего птичьи образы, запечатлевшие ключевые этапы жизненного цикла: образы птенца, вылупившегося из яйца, меняющей оперение птицы, начавшей летать птицы: перм. из кóжи вы́ лупиться ‘определиться в жизни, стать самостоятельным’ ( У меня уж двое из кожи вылупились, уехали, я и не знаю, че там делают, в городе-то ) [11, т. 1, с. 140], литер. оперя́ться ‘становиться взрослым и самостоятельным’ [18, т. 8, с. 898] и др.
Другим источником семантической деривации выступило обозначение линьки при смене шерсти с летней на зимнюю у пушных зверей (белок, куниц и др.): костром. вы́ кунеть ‘вырасти (о ребенке); войти в тело, заматереть’ ( Ребенок выкунил, был маленький и выкунил; Выкунивают бабы-те к сорока годам ) [6], волог., перм., костром. вы́ кунеть ‘вырасти, возмужать; стать рослым, сильным’ ( Паренъ-то лежит на усу, еще не выкунел. Погоди, молода, еще не выкунела; Па-рень-от наш как выкунел, хороший стал, чистяк. Девушку-подростка называют, что она выкуняла ) [16, т. 5, с. 299]. В основе этой последней метафоры лежит мотив готовности, качественного изменения.
Образ младенца, которого качают на руках родители, реконструируется на основе костром. вы́ качаться ‘вырасти (о ребенке)’ ( Вы́ качается один – так унесут, уберут зыбку, потом второму достанут ) [6], перм. зболтáться ‘вырасти, воспитаться в трудных условиях’ ( Пеленишного (привезли к ним), он тут и зболтался ) [9, т. 1, с. 338]. Здесь взросление трактуется как результат родительской заботы.
Готовность еды, напитков. Взросление, по сути представляющее собой качественную перемену, концептуализируется посредством кулинарной метафоры: на печú дойдýт ‘вырастут и так (о детях, которые растут без присмотра)’ [22, с. 62], перм. поспéть ‘достичь совершеннолетия; вырасти’ ( Не поспели у меня девки до войны-то, маленькие они в те годы были ) [11, т. 2, с. 184]. Помимо образа приготовления еды (видимо, выпекания сдобы, что соотносится с известной метафорой из одного теста / из разного теста [о людях] ), используется образ настоявшегося напитка: печор. вы́ держанная дéвка ‘девушка, достигшая возраста, когда можно выходить замуж’ [21, т. 1, с. 157]. Семантика взрослости оформляется в данном случае посредством имеющей древние корни метафоры изготовления человека.
Итак, анализ лексических воплощений взрослости показывает, что речь идет о фрагменте лексикона, описывающего один из аспектов представлений о норме, ср. внутреннюю форму ленингр. нормáльный ‘достигший зрелого возраста, взрослый’ ( Она нормальная, уж двадцать шестой годик, а жених моложе, в армию взяли ) [12, т. 4, с. 41]. Взрослость – это своеобразная «социальная норма». Данный «отрезок» жизненного пути человека представлен лексическими средствами языка как имеющий пределы, начальную и конечную черты, он окружен с двух сторон («до» и «после») другими отрезками, которые маркируются как отклонение от нормы: перм. из дéтства вы́ йти ‘повзрослеть, стать совершеннолетним’ [11, т. 1, с. 136], карел. зайтú в гóды ‘повзрослеть, стать взрослой’ ( В годы-то зашла, да и осмелилась, выстала дочка против отца, за мать заступилась ) [12, т. 2, с. 126], ряз. вы́ йдить (выходúть) из годóв ‘состариться’, ‘стать старше какой-либо возрастной нормы’ [19, с. 117]. Норма в этом случае предстает как состояние, которое достигается и впоследствии утрачивается.
Безусловно, лексика взросления семантически соотносится с вербальными репрезентациями воспитания, взращивания детей, которые в данной статье не рассматриваются. Между тем очевидно, что в этих двух группах лексики реализуются отчасти сходные метафоры. Это можно увидеть уже на примере сопоставления проанализированной лексики с глаголами, являющимися синонимами глагола вырастить, которые представлены в словаре синонимов: вскормить, выкормить; вспоить (разг.); воспитать, вынянчить, поднять, поставить (или поднять) на ноги; взрастить (книж.); возрастить (устар.) / заботливо: взлелеять; выпестовать (устар.) [1, с. 81]. Метафорические параллели находим и в диалектном материале. Так, к образу человеческого сообщества апеллируют перм. в мир вы́ вести ‘оказать содей- ствие кому-л. в достижении общественного положения; помочь занять правильное место в жизни’ (Хозеин-то у ее шибко был хорошой, он в мир-то ее и вывел; Мать с имя не живет, с бабушкой девки-то выросли, и всех их бабушка в мир вывела) [11, т. 1, с. 132], перм. в мир ввестú ‘вывести в люди’ (Он скотником робил, дак она его в мир ввела, сейчас шофером работат, поди как одеват хорошо) [Там же, с. 79] и мн. др. Различие между словами, представляющими идеограммы ‘взрослеть’ и ‘воспитывать’, состоит прежде всего в категории субъекта действия, при этом субъект воспитания и субъект взросления образуют коммуникативную пару. Отсюда и метафорические параллели, например, явная соотнесенность образов «ставить на ноги» и «вставать на ноги», «приобщать к людям» и «приобщаться к людям».
Обобщая столь различные метафоры, мы все же не можем не увидеть в них общее – мотив приобретения. Анализ языковых фактов позволяет заключить, что взросление интерпретируется как достижение какого-либо количества или качества: полноты, силы, времени, определенной локализации в пространстве, ума, включенности в социум, степени готовности (качественного состояния зрелости) и т. д. В метафорах преимущественно актуализируется признак ‘свойство’, о чем свидетельствует обращение номинатора к прилагательным ( полный, совершенный, большой, зрелый и др.) и их дериватам. Однако, помимо «субъективных» преобразований (то есть изменения свойства субъекта взросления), лексически манифестированы также «объективные» приобретения, то есть освоение некоторого внешнего объекта действительности: выбор дороги, освоение социального пространства.
Russian State Vocational Pedagogical University the Department of Russian and Foreign Languages
Список литературы Метафоры взросления человека в русских народных говорах
- Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Рус. яз.: Дрофа, 2001. 586 с.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 240 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1981-1982.
- Калиткина Г. В. Когнитивная метафора контейнера и лингвокультурная специфика концептуализации времени//Вестник Томского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 6 (32). С. 17-36.
- Картотека Словаря говоров Русского Севера (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета).
- Лексическая картотека топонимической экспедиции Уральского федерального университета (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины: Материалы для истории словарного состава говоров. Минск: Наука и техника, 1973. 296 с.
- Русский семантический словарь: толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений/под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1: Слова указующие (местоимения). Слова именующие: Имена существительные (Все живое. Земля. Космос.). М.: Азбуковник. 1998. 800 с.
- Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984-2011. Вып. 1-6.
- Словарь говоров Русского Севера/под ред А. К. Матвеева. Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2001-2011. Т. 1-5.
- Словарь пермских говоров/под ред. А. Н. Борисовой, К. Н. Прокошевой. Пермь: Книжный мир, 2000-2002. Вып. 1-2.
- Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 вып./гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1994-2005.
- Словарь русских говоров Низовой Печоры: в 2 т./под ред. Л. А. Ивашко. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003-2005.
- Словарь русских говоров Сибири: в 5 т./под ред. А. И. Федорова. Новосибирск: Наука, 1999-2006.
- Словарь русских говоров Среднего Урала: в 7 т. Свердловск: Среднеурал. кн. изд-во; Изд-во Урал. ун-та, 1964-1987.
- Словарь русских народных говоров: в 44 т./под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова, С. А. Мызникова. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965-2011.
- Словарь смоленских говоров: в 11 вып./под ред. А. И. Ивановой. Смоленск: Смолгортипография, 1974-2005.
- Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.: Наука; Л.: Изд-во АН ССР, 1948-1965.
- Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)/под ред. И. А. Оссовецкого. М.: Наука, 1969. 612 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986-1987.
- Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры: в 2 т./сост. Н. А. Ставшина. СПб.: Наука, 2008.
- Фразеологический словарь русских говоров Сибири/под ред. А. И. Фёдорова. Новосибирск: Наука, 1983. 232 с.