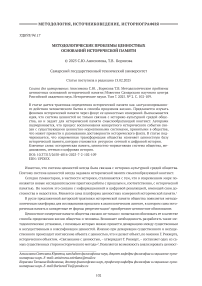Методологические проблемы ценностных оснований исторической памяти
Автор: Анисимова С.Ю., Борисова Т.В.
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье дается трактовка определения исторической памяти как «актуализированного действия человеческого бытия и способа продления жизни». Предлагается изучать феномен исторической памяти через фокус ее ценностных измерений. Высказывается идея, что система ценностей не только связана с историко-культурной средой общества, но и задает для исторической памяти смыслообразующий контекст. Авторами подчеркивается, что процесс воспоминания конкретного исторического события связан с существующими ценностно-нормативными системами, принятыми в обществе, что может привести к размыванию достоверности исторического факта. В статье подчеркивается, что современная трансформация общества изменяет ценностную базу исторической памяти, которая становится ресурсом сетевой и цифровой истории.
Историческая память, ценностно-нормативная система общества, медиапамять, сетевая и цифровая история
Короткий адрес: https://sciup.org/148331453
IDR: 148331453 | УДК: 93/94.17 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-102-109
Текст научной статьи Методологические проблемы ценностных оснований исторической памяти
ные основания исторической памяти в рамках социально-исторического познания4, где ценности выполняют не только социальную, но прежде всего гносеологическую функцию. В гносеологическом плане структуризация особенного и единичного в истории без соотнесения их с ценностями – невозможна, так как «…уничтожение связи объекта с ценностью приводит к уничтожению интереса к истории и самой истории… Поэтому историческое сознание… есть сознание аксиологическое, ценностно ориентированное»5. По мнению Г. Риккерта, сущность ценности состоит в ее значимости, значимости культуры. Из этого можно сделать вывод, что сам познавательный процесс с его нормативными правилами, идеалами, конечным результатом в виде полученного и обоснованного знания тоже представляет значимую ценность для людей, науки, истории, культуры в целом.
Определив аксиологическую доминанту исторического познания, Г. Риккерт ранжирует логическую последовательность ценностей. В историческом познании он выделяет: «Прежде всего – ценности, на которых зиждутся формы и нормы эмпирического исторического познания; во-вторых, это ценности, которые в качестве принципов исторически существующего материала конституируют саму историю; в-третьих, это ценности, которые постепенно реализуются в процессе истории»6. Другими словами, познание истории начинается с эмпирического исследования прошлого. Всем известно, что эмпирическую базу исследования составляет совокупность фактов-знаний, достоверность которых доказана. С точки зрения большинства историков и историографов, «…исторический факт – это фундамент всего знания исторической науки. Он существует независимо от интерпретации, исследовательского подхода и оценки»7. Любой научный факт, в том числе и исторический, имеет сложную гносеологическую структуру. В эту структуру включена объективная составляющая, когнитивный аспект (зависимость способа фиксации и интерпретации факта от системы теоретических и социокультурных установок), а также разные формы выражения. Факт может выступать в форме реальности, в форме события, как факт-ощущение, факт-восприятие, факт-суждение и факт-оценка. Трудность «гносеологической ситуации» факта заключается в том, что его статус как исторического факта, входящего в структуру социально-исторической памяти, по-разному оценивается учеными, работающими в когнитивном поле истории философии или естественных наук. Отметим, что исторический факт как «гносеологически сложное наблюдаемое» является «…результатом системного взаимодействия с предметной средой»8 прошлого. С одной стороны, исторический факт есть определенный фрагмент реально существовавшего прошлого и презентатирован письменными источниками или предметной средой. В этом аспекте исторический факт в форме достоверного знания описывает ту предметность прошлого, которая овеществлена в культуре. И эта овеществлен-ность существует независимо от того, хочет или не хочет ее познать человек. Для примера обратимся к весьма плодотворному, на наш взгляд, высказыванию К. Маркса: «…история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности является раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией… в объективной материальной промышленности… мы имеем перед собой под видом чувственных, чужих, полезных предметов, под видом отчуждения опредмеченные сущностные силы человека. Такая психология, для которой эта книга, т. е. как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и реальной наукой»9.
Конечно, если промышленность является раскрытой книгой человеческих сущностных сил в метафизическом значении, то история науки в значительной мере подтверждает высказывание К. Маркса в буквальном смысле. В научных текстах научное мышление объективировано так, что прошлое человеческой мысли сохраняет свою данность в качестве объекта, существующего актуально.
Таким образом, ценностная миссия социально-исторической памяти заключается в осмыслении значимости как позитивных, так и негативных последствий науки. А также социально-историческая память в ценностном ракурсе оправдывает использование научного знания с учетом всего спектра экономических, юридических и моральных практик в разные периоды истории. Сегодня ценностная миссия, проводимая социально-исторической памятью, наиболее актуальна для совре- менной России, которая «…реализует научно-технические прорывы, мобилизацию творческого потенциала всего общества»10.
Напомним, что при встрече с прошлым фактологический арсенал исследователя содержит достоверность знания-факта, которая доказана, а также факта-ощущения и факта-восприятия. С их помощью формируются исторические образы конкретных персоналий или событий. Известно, что фиксирование этой группы фактов обслуживается теми теориями, которые в силу разных причин выбирает автор или исследователь. Именно в этом скрываются причины существенных расхождений по поводу трактовок исторической личности или события. Например, явление опричнины, введенной Иваном IV Грозным, видные представители дворянской историографии М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин под влиянием писем известного князя А.М. Курбского рассматривали только негативно. Они оценивали положительно только первый период правления Грозного, когда были достигнуты внешнеполитические успехи и проведены важные реформы благодаря мудрым советникам. Но сам образ царя с точки зрения этих историографов – это образ психопата, психически больного человека, а соответственно опричнина – продукт его больной патологии.
Совсем другой образ царя представляет известный историк С.М. Соловьев. С одной стороны, он не оправдывает жестокости Грозного. «Можно ли оправдать человека… неумением устоять против искушений, неумением совладать с порочными наклонностями своей природы?» – спрашивает исто-рик.11 И тот же С.М. Соловьев, положительно оценивая деятельность Ивана IV как укрепителя русского централизованного государства, оправдывает его поступки контекстом того времени, в которое жил царь: «…век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру своему способный приступать немедленно к их решению»12. Явление опричнины в свете сказанного оценивалось Соловьевым как акт сознательный и исторически оправданный необходимостью ситуации.
Таким образом, память, работая с прошлым, попадает в «трудные ситуации», когда в процесс воспоминания конкретного события включаются разные ценностно-нормативные системы. Противоречие этих систем может привести к завуалированию или даже размыванию достоверного исторического факта. Ситуация усложняется наличием так называемой «платформы нетождественных наук», т. е. художественно-нормативных систем. Эти системы не могут обойтись без художественного вымысла творчески одаренных деятелей искусства. Можно восхищаться тем, как по-разному представлен образ Ивана Грозного в художественных фильмах: «Иван Грозный» режиссера С.М. Эйзенштейна, 1-я серия 1945 г., 2-я серия (боярский заговор) 1958 г.; «Царь» режиссера П.С. Лунгина 2009 г.; «Годунов» режиссеров А. Андриянова и Т. Алпатова.
Заметим, что разница между ценностно-нормативными системами, в рамках которых социально-историческая память фиксирует значимость человека или события, не является абсолютной. В этих системах можно обнаружить сходные составляющие. Все ценностно-нормативные системы, как научные, так и художественные, базируются на атомарной самостоятельности исторического факта, в достоверности которого убежден тот исследователь, который способен отличить факты от вымысла, мнений, искажений и предположений. Всем известны, например, исторические даты введения опричнины (1565 г.) и ее отмены (1572 г.), венчания Ивана IV Грозного на царство (16 января 1547 г.) и т. д. Они сопоставлены различными источниками, летописями, актами и т. д. и существуют как реальные, объективные факты.
Из сказанного сделаем вывод: достоверный факт может использоваться исследователем как аргумент в доказательстве и как базис теории. Именно в этом и заключается его аксиологическая составляющая, его ценность как знания о прошлом, которое хранит и транслирует историческая память. Но ценность исторического знания-факта может быть разрушена желанием субъектов ликвидировать существующие устои гуманитарно-исторического познания. Как правило, это происходит в кризисные периоды развития общества, когда все «объяснительные системы познания» рушатся – так это произошло после распада Советского Союза. Своеобразной формой такого краха выступила «новая хронология» математика А.Т. Фоменко. «Согласно взглядам Фоменко, большин- ство событий человеческой истории произошло после 960 г., и лишь часть из них – между 300 и 960 гг. н.э., то есть прошлое радикально укорачивалось, большинство событий античной и средневековой истории объявлялись выдуманными. Кроме того, математик пересмотрел трактовку многих событий русской и зарубежной истории, назвав хана Батыя казачьим «Батькой», раздробив Ивана Грозного на четырех разных людей, одним из которых оказался Василий Блаженный, и т. д.»13. Можно согласиться с той оценкой «новой хронологии» А.Т. Фоменко, которую дает специалист в области исторического познания О.А. Лосева. Она справедливо считает, что исторические взгляды Фоменко нельзя отнести даже к постмодернистскому «тренду» в силу «…отсутствия у него исторической методологии как таковой»14. И дело не только в отсутствии методологического обоснования хронологической концепции у А.Т. Фоменко. Ситуация представляется гносеологически более глубинной. Содержание «новой хронологии» не только игнорирует саму идею эволюции и развития общественной жизни. «Суть истории» А.Т. Фоменко заключается в экзистенциальном отказе ценностного обоснования значимости любых форм деятельности человека в прошлом. В этой ситуации эмплементарная роль социально-исторической памяти как актуализатора «настоящего-прошедшего» и «прошедшего-будущего» сводится на нет. Запутываясь в лабиринтах радикального ускорения и прерывания прошлого, социально-историческая память в «новой хронологии» А.Т. Фоменко способна только конфигурировать лабильные пазлы истории, жонглируя событиями, фактами и персоналиями. Ценностные смыслы исторического растворяются в опрокинутой бездне небес.
Таким образом, отбор исторических фактов происходит в процессе их сопоставления как с нормативной базой ценностных оснований изучаемой эпохи, так и с оценочными позициями самого исследователя. Историческая память с одной стороны сохраняет и передает логику обоснования и существования исторического знания, факта, а с другой стороны транслирует саму ценностную основу жизни и бытия истории. В результате открывается еще одна грань ценностного вектора социально-исторической памяти: не только быть памятью о прошедшем, но и стать живой памятью. Сегодня «живая» социально-историческая память по своей природе становится все более и более аксиологичной. Она ценностно осмысляет вызовы современности и ответы на них. Подтверждением сказанному является пример движения «Бессмертный полк», которое приобрело популярность не только в России, но и во всем мире. И хотя знания и представления о Великой Отечественной войне, по мнению исследователей, в сознании новых поколений остаются в прошлом15, ценностнокультурный эффект этой акции показал эмоциональные намерения и желания многих людей быть приобщенными к своему великому и значимому прошлому. Ведь «хорошее прошлое» (личная биография, биография рода, события страны и др.) способствует позитивному психологическому настрою человека, повышает его самооценку и ценностно-личную значимость в глазах других людей. Другими словами, «живая память хорошего прошлого» помогает человеку во многом «…реализо-вать его новый жизненный проект»16 и выстроить позитивную идентификацию.
Всегда в структуре исторической памяти была задействована мифологизация. Мифы прошлого и современные мифы активно презентатировали позитивные образы Героев, Победителей, Освободителей. На основе противопоставления позитивных образов и негативных образов (Злодей, Враг) формировалась ценностная платформа этико-психологических компонентов, на основе которых позиционировалось достоинство своего «Я» и формировалась высокая самооценка. Современная медиапамять17 активно формирует собственную мифологию, цель которой - преодолевать психологический дискомфорт между исторической и желаемой реальностью.
Ценностное основание исторической памяти в этом случае выходит за пределы смыслового назначения – быть жизнью. Ценностная значимость исторической памяти становится теперь перформансом – утешением жизни.
Сказанное проявляется в деятельности Института национальной памяти в Польше (Instytut Pamieci Narodowej, английское название – Institute of National Remembrance). Его деятельность основывается «на представлении о полувековом периоде истории этой страны как череде преступлений против польского народа, совершенных нацистами и коммунистами. В размещенном на официальном сайте института документе под названием «Краткая история Польши 1939–1989», характеризующем указанный период как включающий «немецкую и советскую оккупации, а также историю Польши при коммунистическом режиме», утверждается: «Репрессии Гитлера были направлены прежде всего против политической, культурной, религиозной, социальной и интеллектуальной элиты. Подобным же образом (similarly) сотни тысяч польских граждан с территорий, оккупированных Советским Союзом, были депортированы в Сибирь и Казахстан, где жили в нечеловеческих условиях» en/brief-history-of-poland/l,. Институт национальной памяти выполняет целый ряд функций, обычно рассредоточенных по разным организациям. В расположении института находятся архивы спецслужб Польской Народной Республики, институт занимается вопросами расследования преступлений, публикацией архивных данных (включая имена секретных сотрудников госбезопасности ПНР), памятными мероприятиями, а также национальным образованием и историческими исследованиями. В 2018 г. в закон об Институте национальной памяти были внесены поправки, предусматривающие наказания за использование выражения «польские лагеря смерти», за публичные высказывания, приписывающие польскому народу ответственность за участие в нацистских преступлениях против человечности, а также за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами и служащими украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. Примечательно, что в задачи Украинского института национальной памяти, созданного по образцу польского, входит «популяризация в мире вклада украинского народа в борьбу против тоталитаризма» , а националисты, действовавшие на территории Польши, считаются сейчас на Украине героями такой борьбы…»18.
Таким образом, для современных пользователей медиа сетей не важен сам вопрос о реальном существовании исторического события или факта. Медиапамять через сетевые структуры не актуализирует модусы жизни, бессмертия, время… Медиапамять ведет диалог не с историческим прошлым, а с эмоциональным опытом любителей, которые конструируют свою историю по своему желанию.
Сделаем выводы:
-
1. В ракурсе ценностных измерений не только социально-историческая память выступает ценностью жизни, но ценностью являются формы ее многочисленных репрезентаций: научное знание, миф, художественный образ. Процесс воспоминания конкретного события часто сталкивается с разными ценностно-нормативными системами, что может привести к завуалированию и даже размыванию достоверности исторического факта.
-
2. Современные трансформации общества изменяют нормативную систему ценностей, в рамках которой социально-историческая память осваивает прошлое. Так, ценностями «сетевой и цифровой истории» выступают бренды трансмедийных проектов исторических событий, а также компьютерные метафоры истории.