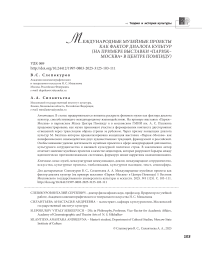Международные музейные проекты как фактор диалога культур (на примере выставки «Париж-Москва» в Центре Помпиду)
Автор: Слепокуров В.С., Силантьева А.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка раскрыть феномен музея как фактора диалога культур, способствующего международному взаимодействию. На примере выставки «Париж– Москва» в парижском Музее Центра Помпиду и в московском ГМИИ им. А. С. Пушкина продемонстрировано, как музеи принимают участие в формировании контекста двусторонних отношений через трансляцию образа страны за рубежом. Через призму концепции диалога культур М. Бахтина автором проанализирована концепция выставки «Париж–Москва» как полифонического взаимодействия двух художественных традиций, французской и российской. Особое внимание уделено деятельности музейных проектов в сфере международной дипломатии, культурного сотрудничества и внешней культурной политики стран. В заключении автор отмечает значение музейных проектов в качестве медиаторов, которые разрушают барьеры между идеологически противоположными системами, формируя новые нарративы взаимопонимания.
Музей, межкультурные коммуникации, диалог, международное сотрудничество, искусство, культурные проекты, глобализация, культурное наследие, текст, семиосфера
Короткий адрес: https://sciup.org/144163481
IDR: 144163481 | УДК: 069 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-103-111
Текст научной статьи Международные музейные проекты как фактор диалога культур (на примере выставки «Париж-Москва» в Центре Помпиду)
В последние десятилетия особо значимую роль в структуре межкультурных коммуникаций приобрели музейные проекты, которые становятся фактором диалога культур, эпох, стран и даже мировоззрений. В условиях глобализации такие виды музейной деятельности как временные выставки, образовательные программы и резиденции для художников выступают механизмами, способствующими диалогу культур через переосмысление культурных различий и создание условий для продуктивной коммуникации. Кроме того, стоит отметить культурную значимость музеев, которая заключается в содействии пониманию исторического наследия и решению современных социальных проблем. Актуальность этой темы также подтверждает открытие в настоящее время международного форума «Диалог культур» в стенах Эрмитажа, в котором участники представляют собственные проекты, посвященные преодолению отчуждения между представителями различных культур и конфессий [5]. Директор государственного музея Михаил Пиотровский отметил расширение роли музеев в обеспечении диалога культур в связи с универсальностью музейного «языка», не требующего перевода [12].
С середины двадцатого века трансформируются формы представления и понимания экспонатов и музейной экспозиции, ценность которых с Новейшего времени заключается в проекте, в речи, в явной интенциональности. Изменяется и роль публики, которая предстает важным фактором при планировании выставок, поскольку она рассматривается как агент и партнер по распространению экс-
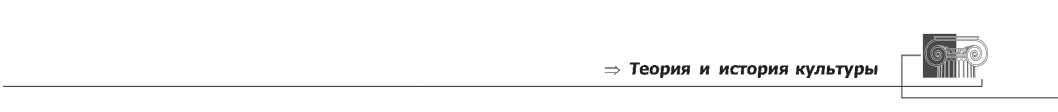
позиционных сообщений. Иными словами, музей становится агентом социальных отношений и пространством культурного разнообразия, занимая в современном мире центральное место на политической и культурной арене. Функции музея и экспозиционной деятельности заключаются в обеспечении социальных изменений и устойчивого развития из-за их значимости для сохранении памяти и распространения культуры, а также – из-за многочисленных взаимодействий с иными общественными структурами, в связи с чем музеи стали потенциальными объектами социальной и культурной интеграции [11].
В отечественной гуманитарной мысли также активно переосмысляется феномен музея и его функций в структуре общественных отношений. На рубеже XIX–XX веков Н. Ф. Федоров в работе «Музей, его смысл и назначение» предпринял попытку осмыслить нравственное значение музея в контексте философского подхода к пониманию культуры [9]. После того, как в 1920-х годах были сформулированы П. А. Флоренским и A. B. Бакушинским задачи деятельности музея в культуре, исследования, посвященные проблеме феномена музея, прерываются. В настоящее время авторы принимают в большинстве случаев институциональный подход к осмыслению музея и его значения, то есть как социального института в регулировании общественных отношений. Таким образом, музейная деятельность была интегрирована в происходящие процессы социокультурной деятельности и стала значимым институтом общественного мнения и условием сохранения и трансляции культурного кода и его воспроизводства. В этой связи анализ музея как фактора диалога культур является актуальной проблемой, выявляющей способы организации и трансляции обществом культурного наследия в соответствии с потребностями социокультурной среды и механизмами ее эффективного развития.
Важная точка зрения на функции музея, к которой мы обратимся, заключается в рассмотрении музея в контексте культурной коммуникации, которая пересекается с семиотическим подходом и анализом знаковой природы музейной экспозиции в целом и ее экспонатов в частности, а также – проблемы ее понимания и интерпретации. Это связано с тем, что музейная экспозиция представляет собой семиотическую сферу, единицей которой является экспонат, обладающий свойствами репрезентативности и информативности, несущий в себе понятия смысла и значимости, которые реализуются в общем выставочном пространстве [6].
Являясь полноценным субъектом международных отношений, музеи принимают участие в формировании контекста двусторонних отношений через трансляцию образа страны за рубежом. Актуализацией международной деятельности музеев послужила эпоха глобализации, в которой музей приобрел новые задачи в сфере профессионального, научного и художественного сотрудничества посредством выставочных проектов. Благодаря им устанавливаются прочные связи между странами и оказывается влияние на общественное мнение. Кроме того, международные выставки, устраивающиеся двумя странами, приобретают значение для определения климата международных отношений. К ним можно отнести отправление картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в США в 1963 году, а также – в СССР и Японию в 1974 году. Эта практика стала подтверждением наступления нового социокультурного контекста и символом нового периода международных отношений.
Еще более ярким примером является выставка «Париж-Москва» и «Москва-Париж» соответственно в парижском Музее Центра Помпиду и московском ГМИИ им. А. С. Пушкина, который подчеркивал общий международный характер отношений между СССР и Франции того периода. Общественный резонанс проекта был вызван тем, что многие работы ранее никогда не демонстрировались в Советском Союзе. Выставка стала воплощением концепции диалога культур, описанной отечественным философом Михаилом Бах- тиным, согласно которому культура, вступая в контакт с другой, сохраняет свою уникальность, но одновременно трансформируется и обогащается.
Культурный опыт музейного проекта также продемонстрировал, что музейный экспонат, в отличие от произведения искусства как такового, становится средством общения и фактором диалога эпох, культур, то есть процесса межкультурной коммуникации. В философском и культурологическом наследии Михаила Бахтина диалог рассматривается как основа человеческого бытия. Через концепции отечественного мыслителя о полифонии и взаимопонимании мы рассмотрим межкультурное взаимодействие на примере международных музейной проектов. В работе «Эстетика словесного творчества» отечественный культуролог раскрывает принципы репрезентации и выражения культурой символических форм [4]. Поскольку специфика каждого «языка» не препятствует возможности понимания носителя одного языка другим, оказывается возможным «диалог культур». Согласно М. Бахтину, чужая культура раскрывается полнее и глубже только в глазах другой культуры. «Чужие мысли, смыслы, значения» открываются исследователю исключительно в качестве текста и через взаимодействие двух сознаний [2]. Практика интерпретации символического содержания культуры также определяет иной важный принцип трансляции культуры – ее существование на границе с другой культурой.
Музей в системе представлений М. Бахтина становится пространством для осуществления этого диалога. Задачей современной музейной экспозиции является формирование представлений о традициях другой культуры через вещи, символическое значение которых необходимо для этого понимания. Кроме того, предметы экспозиции, помещенные уже в иной социально-исторический, культурный контекст, трансформируются в текст, который реципиент интерпретирует в соответствии с актуальной картиной мира. Будучи по отношении к предметам экспози- ции в статусе Другого, реципиент относится к экспонатам как предмету познания. Культурологическое понимание концептов полифонии и диалогизма, применяемое М. Бахтиным к художественному тексту, было продолжено отечественным семиотиком культуры Ю. Лотманом. Полиглотизм, многоязычность представлены им как сущностные характеристики культуры, все подсистемы которой взаимодействуют друг с другом и находятся в общем пространстве полилога [7]. Коммуникативность системы обеспечивает условия для се-миозиса и формирования новой информации во внутреннем контексте; во внешнем – взаимоотношение с другими пространствами культур и их семиосферой.
Юрий Михайлович Лотман полагал важным аспектом бытования культуры презумпцию проницаемости ее границы, благодаря которой становится возможным осуществление контактов с иными семиосферами. Взаимодействие с иными коммуникативными пространствами представляется важным по нескольким причинам. Во-первых, вследствие диалога происходит механическое расширение символического содержания культуры в результате интегрированных в нее иных текстов. Во-вторых, диалог становится катализатором для творческой деятельности в поиске кодов для интерпретации. Не менее важным является и конструирование собственной цельности через рефлексию и самопознание для представления ее перед Другим [7].
Таким образом, современный музей не столь демонстрирует экспонаты, сколь придает культурному событию, в контексте которого они были сделаны, значение и причастность к истории. Выставка «Париж–Мо-сква» в Национальном музее современного искусства во Франции в 1979 году послужила примером такого международного музейного проекта, который способствовал началу диалога культур между странами различных политических блоков, что означало бы новый этап в истории взаимоотношений Советского Союза и Франции. Впоследствии выставка будет воспроизведена уже в Советском Союзе в 1981-м году. Анри Фроман-Мерис, посол Франции в Москве в 1970-х годах, подытожил опыт музейной экспозиции, сказав, что «любая форма культурного обмена, даже самая незначительная, даже неидеальная, всегда лучше изоляции» [14, с. 36]. Основная идея проведения выставки основывалась на предположении, что отношения между Парижем и Москвой будут укрепляться.
Однако значение культурных проектов, в том числе музейных, для осуществления диалога двух стран, Советского Союза и Франции, было отмечено еще в начале 1970-х годов, за несколько лет до проведения главного выставочного проекта. Во время президентства Жоржа Помпиду Министерству иностранных дел Франции был направлен доклад, в котором была подчеркнута роль культуры и искусства в сфере международного обмена. Отмечалось, что культура имеет равное значение с политикой и экономикой как средство международной дипломатии, которая не может игнорировать искусство. Преемник Жоржа Помпиду Валери Жискар Д’Эстен поддерживал международные отношения с Советским Союзом и создал дипломатический контекст, благоприятствующий уникальным культурным обменам. Его реализации способствовало признание президентом Франции Советского Союза как существующей политической реальности, к ценностям и идеологии которой стоит относиться с вниманием и уважением. Политическая позиция Валери Жискара Д’Эстена базировалась на понимании необходимости диалога и была подкреплена официальными договорами и культурным сотрудничеством: между Францией и СССР были организованы временные художественные мероприятия, гастроли балета, театральные постановки, кинопоказы и выставки. После Хельсинкской конференции 1975 года Советским Союзом также активно предпринимались попытки расширить свои отношения с Западом, которые поддерживались Францией[14].
Будучи музейным проектом, эта экспозиция явилась не просто демонстрацией художественных достижений двух культур, но и инструментом культурной дипломатии, вписанным в контекст холодной войны. Советский Союз тем самым демонстрировал свою открытость, культурную состоятельность и конкурентоспособность на международной арене. Расширяя представление о советской культуре, которая выходит за пределы социалистического реализма и имеет связи с мировыми модернистскими течениями, СССР позиционировал себя как активного участника глобального культурного процесса. Изначально задуманная как исследование перекрестного влияния русской и француз- ской художественной традиции на протяжении первой половины XX века, выставка «Париж–Москва» стала для Советского Союза не только культурным, но и политически важным событием.
Как было ранее указано, особенно значимым представляется исследование данного музейного проекта через призму культурологической теории диалога и семиотического подхода к концепции музейной экспозиции. С точки зрения теории диалога М. Бахтина, выставка является объектом полифонии также в связи с тем, что каждая художественная традиция представлена автономно, но, тем не менее, в состоянии активного взаимодействия с другой: выставка «Москва–Париж» явилась попыткой показать сложные взаимосвязи между русским и французским искусством в начале XX века, а также раскрыть взаимное влияние французского авангарда и русского модернизма. Экспозиционное решение – представление экспонатов «диалогически» – также способствовало формированию у зрителей нового восприятия художественного процесса XX века между Россией и Францией, как процесса равноправного обмена культурными идеями. Таким образом, выставка продемонстрировала, что русское и французское искусство неразрывно связаны между собой, что в период холодной войны имело политико-культурное значение. В связи с тем, что художественный обмен между Советским Союзом и Европой был ограничен идеологическими рамками, выставка «Па-риж–Москва» стала символом «культурной дипломатии».
Через демонстрацию перекрестных художественных влияний авангардного искусства двух стран также была предпринята попытка формирования транснациональной идентичности между Парижем и Москвой. На выставке были экспонированы одни из знаковых работ современного искусства первой половины XX-го века: “Черный квадрат” Казимира Малевича, дизайн, созданный Александром Родченко, восстановленная с нуля башня Татлина, новаторские фильмы Дзиги Вертова и эксперименты Сони Делоне. Вместе с этим, когда в 1981 году выставка была представлена в Москве, советская общественность также впервые с начала ХХ-го века (до этого картины были спрятаны в музейных подвалах) увидела работы французских авангардистов [13].
Начало XX-го века, период с 1900-го по 1930-й год, характеризовалось не только распространением авангардного искусства внутри России, но и развитием художественных обменов, творческих диалогов и взаимодействий, благодаря котором произошла трансформация истории искусства. Этот диалог между Францией и Россией воплощен в экспозиции произведений искусства, которую можно увидеть на фотографиях из архивов. Диалогичность выступала одним из принципов кураторской концепции выставки «Париж–Москва». Экспозиция строилась на хронологическом и тематическом сопоставлении двух культурных традиций, подчеркивая их взаимосвязи. Были представлены ключевые периоды и художественные течения, от кубизма до конструктивизма, что способствовало созданию целостной картины взаимодействия. Этот подход имел не только эстетическое, но и научное значение, став основой для дальнейших исследований глобальных процессов в искусстве XX века.
Стоит упомянуть роль меценатов в развитии межкультурных отношений, которые знакомили молодых русских художников с парижской художественной деятельностью в период, которому посвящена экспозиция.. Так, Сергей Дягилев, создатель русских балетов и известный российский искусствовед, не только ставил балеты в Париже, но и способствовал распространению образцов французского символистского движения под названием «ар-нуво» в России. Помимо Дягилева, Иван Морозов и Сергей Щукин, русские торговцы произведениями искусства, играли решающую роль в обмене между французскими и русскими художниками. После эмиграции деятелей культуры и искусства в Париж часто проводились выставки между двумя столицами, и Анри Матисс, Пабло Пикассо,
Ле Фоконье, Андре Дерен и Морис де Вламинк познакомились и сблизились с Казимиром Малевичем, Василием Кандинским, Михаилом Ларионовым, Любовью Поповой, Петром Кончаловским и Робертом Фальком. Этот диалог представлен экспозицией, в которой французские и русские произведения искусства расположены зеркально, лицом друг к другу. Эти авторы долгое время оставались на периферии официальной советской культурной политики, в связи с чем их произведения были запрещены или недоступны для широкой публики в СССР из-за их несовместимости с канонами и задачами социалистического реализма. В контексте международного культурного обмена их репрезентация приобрела ключевое значение для обеих сторон, советской и французской.
Двусторонний художественный обмен также способствовал деконструкции культурных границ через раскрытие французской публике богатства и разнообразия русского искусства, выходящего за рамки советской социалистической идеологии. Советской же публике представилась возможность познакомиться с наследием искусства начала XX-го века и осознать его как самобытную и оригинальную часть мировой художественной сцены. Экспозиция показала, что культурные процессы не ограничиваются национальными или геополитическими рамками, а представляют собой диалоговое взаимодействие. Акцент на авангардных тенденциях помог зрителю осознать универсальность художественного определения и взаимопроникновение идей. Тем самым экспозиция была представлена нарративом о взаимопроникновении культурных традиций и художественных подходов. Стоит упомянуть, что русское авангардное движение черпало вдохновение из идей французского кубизма и фовизма. Вместе с этим французские художники также с интересом знакомились с радикальными новациями русских формалистов. Экспозиционное решение позволило отметить и утвердить идеи культурного равенства, отрицая мысль об одностороннем влиянии.
Однако музейный проект способствовал изменению восприятия русского авангарда не только за границей, но и внутри самой советской культурной системы. Трансформировалось представление об отечественном искусстве начала XX-го века: если ранее авангард ассоциировался с буржуазным формализмом и антиреволюционными настроениями, то посредством международного признания он стал восприниматься как символ национальной гордости и инновационного мышления, как часть культурного наследия СССР. Это способствовало разрушению доминирующего идеологического нарратива о «неполноценности» или «вредоносности» авангарда, позволив широкой аудитории взглянуть на него как на органичную часть отечественного художественного процесса.
Важным представляется обозначение роли Центра Помпиду, который выступил в качестве посредника между двумя культурами, предоставляя площадку для взаимодействия различных художественных традиций. Тем самым музейный проект стал «третьим пространством», где культурные границы стираются, а вместо них образуется пространство нового синтеза. Центр Помпиду, являясь одной из самых прогрессивных и авангардных институций Запада, стал площадкой для реализации этого замысла. Для советского государства участие в столь крупном проекте свидетельствовало о стремлении к преодолению культурной изоляции и усилению символического присутствия СССР на Западе через представление художественного наследия, которое может считаться частью общей европейской культуры. Франция же подтверждала статус Парижа как мирового культурного центра и исторической столицы авангарда.
Не менее важно, что деконструирование идеологических стереотипов стало катализатором для формирования на Западе иного взгляда на советскую культуру, способствуя её демистификации и более глубокому пониманию её многообразия. Культурные проекты такого рода помогают преодолевать барьеры между «нами» и «другими», создавая пространство для взаимопонимания и диалога, а также трансляции культурных ценностей.
Таким образом, международные музейные проекты имеют дипломатическое значение в развитии диалога культур между народами и государствами. Выставка «Па-риж–Москва» – это пример международного музейного проекта, ставшего катализатором межкультурного диалога в сложных политических и культурных условиях. Обратившись к разработанной М. Бахтиным философии диалога, мы видим, каким образом полифоническое взаимодействие двух художественных традиций, реализованное в музейном проекте, приобрело форму межкультурной коммуникации, где искусство выступило универсальным языком для деконструкции бинарных границ и создания нового культурного синтеза. Что особенно важно, этот проект продемонстрировал значение искусства как инструмента культурной дипломатии и обозначил новый период в международных отношениях Советского Союза с европейскими странами. Это позволяет заключить, что выставка «Париж–Москва» играет важную роль в истории культурного сотрудничества и во внешней культурной политике стран. Она стала примером того, как искусство может служить медиатором между идеологически противоположными системами, разрушая барьеры и формируя новые нарративы взаимопонимания. Этот проект укрепил позиции СССР на международной культурной арене и продемонстрировал универсальность и актуальность идей модернизма, подтвердив их значимость для глобального художественного процесса. Стоит подчеркнуть значительную роль правительств Франции и СССР в создании международного контекста, в котором стало возможным проведение выставки. Культурная дипломатия, воплощенная в содержании самой музейной экспозиции, имела своим итогом заявление о том, что двусторонние отношения между государствами будут укрепляться.
На примере выставки «Париж–Москва» мы можем полагать международные выставки инструментами «мягкой силы», поскольку удостоверились, как музейным проектам удается транслировать сообщение позитивных политических намерений государств. Вместе с этим первостепенной задачей международных выставок является презентация культуры стран, расширение их символического присутствия и диалог между ними. Как также продемонстрировала выставка «Париж–Мо-сква», музейные проекты – через принципы публичной дипломатии – также способствуют открытию и доступности культурного наследия публике.
Впоследствии выставка «Париж–Москва» станет катализатором для последующих международных музейной проектов в 1990-х годах для России: пройдет не менее знаковая выставка «Москва– Берлин / Berlin–Moskau. 1900–1950» в Берлинской галерее и музее изобразительного искусства им. А. С. Пушкина.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности описанной формы музейных проектов, понимаемой как фактор диалога между странами, так как межкультурная коммуникация, реализующаяся на экспозиции, ведет к обоюдному обогащению, становится перспективным направлением для международной дипломатии.