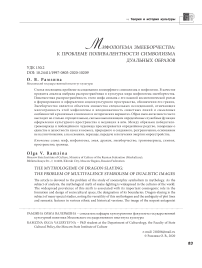Мифологема змееборчества: к проблеме поливалентности символизма дуальных образов
Автор: Рамзина Ольга Валерьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме исследования зооморфного символизма в мифологии. В качестве предмета анализа выбрана распространённая в культурах мира мифологема змееборчества. Повсеместная распространённость этого мифа связана с его важной космогонической ролью в формировании и оформлении социокультурного пространства, обозначении его границ. Змееборчество является объектом множества специальных исследований, отмечающих многогранность этой мифологемы и неоднозначность сюжетных линий и смысловых особенностей в различных этнических и исторических вариантах. Образ змея-антагониста часто выглядит не столько отрицательным, сколько выполняющим определённые служебные функции оформления культурного пространства и медиации в нём. Между образами победителя-громовержца и побеждённого чудовища просматривается определённое родство, говорящее о единстве и целостности хаоса и космоса, природного и созданного, разграничении, основанном не на уничтожении, а на освоении, переходе, передаче и получении энергии мироустройства.
Миф, мифологема, змея, дракон, змееборчество, громовеержец, символ, пространство, граница
Короткий адрес: https://sciup.org/144161361
IDR: 144161361 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10209
Текст научной статьи Мифологема змееборчества: к проблеме поливалентности символизма дуальных образов
Сегодня крайне необходимо чёткое понимание сходства и различий в представлениях о мире и человеке у разных культур и народов. Пути к такому пониманию можно проложить через изучение и сравнение мифопоэтических картин мира, выявление тех культурных традиций и мифологем, которые повлияли на их формирование, определение механизмов их взаимодействия.
«Представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек принимает их на веру, не задумываясь. Иначе говоря, пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключённый в них взгляд на мир» [4, с. 9], – отмечают современные лингвисты, определяя объём понятия «картина мира». Следовательно, изучение аналогичных образов в далёких друг от друга мифопоэтических комплексах важно ещё и потому, что для них показательными являются неявные смыслы, несущие большую символическую нагрузку и, следовательно, требующие детального семантического анализа: выявления ключевых идей и концептов, сквозных мотивов, изучения фоновых и контекстуальных компонентов.
Однако в силу своей, казалось бы, «несерьёзной» специфики большинство зооморфных персонажей мифопоэтической традиции чаще всего остаётся за рамками «серьёзной» науки, хотя сегодня изучение теоретических и практических сторон этой образности в культурфилософском и историко-культурном аспектах действительно необходимо как минимум для прикладной культурологии, постоянно сталкивающейся, например, с визуализацией и актуализацией таких образов современными субкультурами, индустрией массовой культуры и т.п. Также существует большой разрыв между западноевропейской, славянской и восточноазиатской научными традициями, поскольку отсутствует целостная система сопоставления зооморфных образов (и в частности, образа змеи и мифологемы змее-борчества) в соответствующих культурных регионах, хотя семантическое поле и глубокий разветвлённый символизм этого образа сохраняет большое количество «следов» встреч и взаимодействия различных культур.
Одним из структурообразующих конфликтов мировой культуры в целом можно назвать столкновение света и тьмы, порядка и хаоса. Широко распространённым изводом этой темы является противоборство сакральной фигуры хранителя небес и порядка (культуры) в целом, нередко выполняющего функцию громовержца и «освободителя вод», и его антагониста – хтонического персонажа (чаще всего – змея/дракона или змееподобного существа), «связывающего» воды и, таким образом, угрожающего существованию жизни на земле во всех её прояв- лениях. Безусловно, что повсеместная распространённость этого мифа связана с его важной космогонической ролью в формировании и оформлении социокультурного пространства, обозначении его границ. Тем более что в архаическом обществе «граница», пожалуй, самая актуальная категория сознания. Она маркирует наиболее значимые ценностно-смысловые зоны и определяет переход из одного состояния в другое, что, собственно, и является сутью сюжета о победе над змеем/драконом.
Не случайно змееборчество в мифологии и культуре является предметом множества подробных специальных исследований, большинство которых мы вынуждены оставить за рамками этой статьи, упомянув лишь наиболее важные для нашей темы. Тщательный обзор и анализ этого мифа в его различных этнических и исторических вариантах был сделан ещё в середине ХХ века Дж. Фонтенроузом в фундаментальном исследовании «Python. A Study of Delphic Myth and its Origins», к сожалению так и не переведённом на русский язык [19]. Основываясь на конкретном и углублённом анализе, автор пытается реконструировать инвариант мифа, отмечая, что данная мифологема привлекает и включает различные темы, но они реализованы отнюдь не во всех вариантах. Следовательно, невозможно найти миф, охватывающий все темы и представляющий собой идеальную модель [см. также: 20; 21].
Другая знаковая работа, посвящённая мифу о поединке со змеями, принадлежит Вяч. Вс. Иванову и В. Н. Топорову [5]. В первой половине книги авторы реконструируют славянский инвариант, используя письменные, фольклорные и археологические данные различной степени информативности. По мнению авторов, борьба со змеем является предметом «основного мифа» в любой мифологии. Славянский материал, в свою очередь, позволяет предположить, что победитель змея бог-громовержец Перун выступает как законодательное и упорядочивающее (культурное) начало в силу своего соотнесения с «высшей социальной группой» – княжеской дружиной, о чём и говорит его частое расположение на возвышенности, а его противник – «скотий» хто-нический бог Велес – дислоцируется в низине, у корней дерева и т.п., то есть там, где таится изначальный хаос [5, с. 9 и далее]. Эта концепция уже достаточно давно вошла в научную литературу, и хотя она получила свою долю критики, её можно считать устоявшейся. Также в семиотических терминах миф о змееборчестве рассматривается Б. А. Успенским [17], который привлекает чрезвычайно обширный материал (в основном фольклорный) для анализа особенностей сторон-антагонистов и исторических метаморфоз их превращений и замещений, которые могут быть весьма неожиданными. Применение структурного метода позволяет Успенскому найти реализацию темы в самых разных мифологических кодах. Так, например, автор приводит текст белорусского заговора: «Царь змеиный Ир, и царица Ирица!.. Напусьциць на цябя Сам Господзь Бог, Сам Илля Пророк тучу цёмну, пелену огненну и пожнець тя, поццнець тя и по ветру разнесець тя», и далее комментирует его следующим образом: «Антагонистические отношения змеиного царя и царицы с Ильёй-пророком (отождествляемым с самим Господом Богом) позволяют усматривать в этом тексте отражение всё того же исходного мифа о поединке Бога Громовержца … и, следовательно, видеть в них своеобразные ипостаси Волоса. Но знаменательно, что их имена (Ир и Ири-ца) очевидным образом перекликаются со словом ирий … как названием сказочной страны, потустороннего царства, которое может ассоциироваться с раем … ирий вообще непосредственно соотносится со змеями как место, куда скрываются змеи и птицы на зиму …» [17, с. 59–60]. Таким образом, Успенский акцентирует неоднозначность и смысловую сложность символизма, содержащегося, казалось бы, в однозначно отрицательных змеиных образах. Во-вторых, на передний план выходит проблема некого «родства», функционального сближения главных героев вечной дуэли, неразличимая на первый взгляд. Рассмотрим этот момент подробнее.
Практически самый древний архетипический образ конфликта мы находим в вавилонском варианте мифологемы (III тыс. до н.э.), в котором один из важнейших богов пантеона – Мардук, являющийся в числе прочего божеством вод и растительности, то есть того, что необходимо для развития, убивает при помощи вихрей и стрел-молний драконоподобную Тиамат, персонифицирующую первозданный хаос, и создаёт из её тела космос (Рассек её тушу, хитроумное создал / Разрубил пополам её, словно ракушку / Взял половину – покрыл ею небо... / Тигр и Евфрат пропустил он сквозь её очи / Её ноздри заткнул он – накопил там вóды… / Так создавал он небо и землю) [6, с. 42–43]. В хет-тской версии мифа бог грозы Ишкур (заимствованный из хурритского пантеона Теш-шуб) добивается своей самой важной победы, убивая огромного змея Иллуянку, похитившего у него сердце и глаза [9, с. 52–53], в то время как в мифологии Древнего Египта бог солнца Ра и его свита каждую ночь, проплывая через Дуат, должны вновь и вновь убивать хтоническое чудовище, воплощение небытия и мрака – Апопа [12, с. 64]. Скандинавский Тор сражается со змеем Йормун-гандом, обвивая всё его тело вокруг земного шара [11, с. 31]. Аналогичный мотив мы так- же находим в греческой мифологии, где громовержец Зевс сражается с отцом всех монстров Тифоном, и во множестве других мифологических комплексов.
При этом следует отметить один аспект, представляющийся достаточно важным. В большинстве случаев описания столкновений порядка и хаоса мы встречаем офио-морфные образы не только на стороне хаоса и зла, где огромный змей или дракон не вызывают удивления, но и на стороне порядка, в виде спутников, атрибутов и ипостасей самих упорядочивающих божеств. Миф о победе над змеем постоянно концентрирует наше внимание на деталях, говорящих об истреблении подобного подобным. Так, символом самого Мардука, убившего Тиамат при помощи змееподобного символического оружия – вихрей и молний, становится созданный ею же дракон Мушруш (Сирруш). А древнеегипетский Ра совершает своё плавание на ладье Вечности в окружении нескольких змееподобных существ, помогающих ему в борьбе с Апопом: трон его обвивает гигантский змей Мехен-Та, «защитник ночной ладьи», рядом с ним – змееглавый «властелин времени и покровитель урожая» Нехебкау и, наконец, Уаджит-урей служит непосредственным оружием Ра в бою. Можно привести и ещё ряд подобных примеров дуалистического применения офиоморфов в мифологии. Возникает вопрос, чем это обусловлено?
Чтобы понять роль и место противоборствующих сторон в процессе структурирования и оформления мира, нам следует подробнее рассмотреть этот антагонизм в контексте ещё одной важной мифологемы – представления о трёхъярусном строении вселенной. Чаще всего символически это изображается в виде дерева, на вершине которого находится орёл с расправленными крыльями, а на земле у корней свер- нулась змея. Изображения орла, ствола дерева с ветвями и змеи символизируют три сферы – небо (высший мир), промежуточное пространство (мир природы и человека) и землю (материю) вместе с подземным пространством. Идея трёх миров, расположенных по вертикали, является развитием устойчивого древнейшего представления об изначальном единстве и целостности. Создание организованной вселенной является результатом расчленения, проведения границ и создания промежуточного пространства, которое со временем начинает приобретать первостепенное значение. Срединная воздушная часть уже не просто разделяет и соединяет две другие, а поддерживает их разделение, сохраняя тектоничность и порядок во вселенной.
Эту важнейшую функцию центра можно видеть во всех ритуальных практиках индоевропейских и многих других культур, где дерево, столб, алтарь и подобные тому объекты совмещают роль символического центра мира (по горизонтали) и жертвенника, то есть своего рода границы, которую надо преодолеть, (по вертикали). Попадая в точку абсолюта вселенной между землёй и небом, между смертным и бессмертным, событие, жертва и ритуал (битва со змеем – в нашем случае) локализуются в центре сакрального пространства, откуда воздействие происходящего распределяется по всей системе мира и достигает своей цели, поскольку задано в правильном месте. Как писал В. Н. Топоров, «существенно реально лишь то, что сакрально отмечено … центр мира совпадает с центром ряда вписанных друг в друга сакральных объектов, которые в этом смысле оказываются изоморфными друг другу и изофункциональны-ми» [16, с. 13–14]. То есть в центре мира аккумулируется и распределяется некая теургическая энергия, закладывающая основы функционирования, понимания и восприятия мира.
Отсюда понятно, что боги-громовержцы довольно-таки не случайно играют центральную роль во многих культурах. Гром, особенно сопровождающийся дождём, молнией, ветром, – это и есть энергия, эманация активности и творческой силы, оказывающая непосредственное влияние на всё живое [2, с. 76–77]. В самых древних культурах функции молниеносца чаще всего выполнялись существами в образе птиц, поскольку, согласно древним представлениям, Орёл летал ближе всего к Солнцу [1, с. 164]. Размахивая и хлопая крыльями, птицы образуют штормы и грозы, в то время как вспышки являются результатом мерцания глаз. Орёл часто изображается держащим змею в когтях или клюве. Такую териоморфную репрезентацию мы можем видеть в Ведах, где иногда индийский бог молнии Индра и его помощники маруты представлены в виде ястреба, нападающего на змею [13, с. 206].
По мере развития социальных представлений и соответствующей символики образ орла далее превращается в антропоморфного бога грома с мощным и внушающим страх характером, который сражается с демонами, блокирующими воды или угрожающими порядку в мире. Недаром Громовержец чаще всего изображается едущим на белом коне или колеснице, запряжённой белыми/золотыми жеребцами. Его голос гремит, как гром, а молния высекается копытами лошади. Он бог-воин, герой и военачальник, победитель дракона, содержащий угрожающую драконью ипостась в себе самом. Ибо, чтобы победить хаос, разрушить его границы, получить энергию, он должен содержать укрощённые части этого хаоса, элементы источника изначальной энергии, своего рода инструменты, позволяющие совершить сокруши- тельное жертвоприношение. Он высвобождает небесные воды и таким образом обеспечивает плодородие, даёт жизнь и процветание. Гром и змееподобная молния выступают при этом как сила и божественное семя, оплодотворяющие Мать-Землю, победа над монстром рассматривается как триумф сил жизни и истинных ценностей над, казалось бы, всемогущей силой смерти и зла.
В свою очередь, источники энергии, необходимой для мироустроения, то есть собственно враги, с которыми сражается громовержец в индоевропейской мифологии, практически всегда представлены как проявления сложного и нагруженного богатой символикой образа змеи, дракона, ламии и т.п. А наиболее важной характеристикой змеи можно признать её поливалентность. Змея – единственный зооморфный образ, полноценно наделённый символизмом как по горизонтали, так и по вертикали. С одной стороны, змей/дракон – фаллический символ, указывающий на оплодотворяющую мужскую силу, стихии огня, воздуха. С другой – змея тесно связана с женскими аспектами, стихиями земли и воды, представлением о мудрости, высшем знании. Она является воплощением Земли, её тьмы, влаги и плодотворных сил, скрытых в ней. Не случайно одно из семиотических значений её присутствия в мировом фольклоре как атрибута богини (особенно в сочетании с зеркалом) почти всегда означает бракосочетание и беременность1. Слияние женской и мужской силы – жизнетворческий акт природы, представленный в фольклоре как брак между земной девой и змеем, мотив, широко известный в сельскохозяйственных культурах по всему миру [18, с. 170]. Таким образом, змея символизирует связь как с землёй и водой, из которых рождается жизнь, с их творческим потенциалом, так и с мужской репродуктивной силой, огнём творения и дыхани-ем2. Ряд народных сюжетов представляют змею как мудрое животное, знающее силу каждой травы и тайны исцеления и бессмертия [7, с. 122]. Классический образ двух переплетённых змей, ставших эмблемой современной медицины, сохраняет представление о том, что змеи являются хранителями вод из глубин, которые текут как сок в дарящие здоровье травы и растения [8, с. 108; 15, с. 11–35].
Такая сложная и противоречивая природа змеи/дракона делает этот образ идеальным компонентом для космогонических мифов и сюжетов о мироустроении, построении государства. Змея содержит все элементы первичного хаоса, которые после расчленения тела приобретают самостоятельность (обособленность) и становятся пригодными для организации, то есть могут быть использованы в качестве строительных блоков социокультурного пространства. Кроме того, в силу своей формы и возможностей змея во многих культурах выступает в роли посредника, медиатора между подземным миром, землёй и небом, нередко обретая крылья на последнем этапе и в образе дракона приближаясь к функциональным и символическим возможностям таких птиц, как орёл и ястреб (непосредственно связанных с образом божества-громовержца).
Таким образом, миф о победе над змеем предстаёт не только как сюжет о необходимости преодоления разрушительных сил хаоса силами культуры, воплощёнными в образе бога-демиурга или героя-ос- нователя династии, государства и т.п., но и как представление о единстве природного и созданного, разграничении, основанном не на уничтожении, а на освоении, переходе, передаче и получении энергии мироустройства.
В таком виде мифологема змееборче-ства во всём своём семантическом многообразии хорошо вписывается в концепцию обрядов перехода А. ван Геннепа [3], который считал, что ритуал не имеет одного единственного, однажды заданного и неизменного смысла: смысл трансформируется в зависимости от действий, совершаемых перед обрядом, и действий, следующих за ним. Соответственно, чтобы проанализировать каждый вариант мифологемы змее-борчества, его нельзя произвольно вырывать из контекстуальной целостности. Каждый элемент следует рассматривать в его связях с другими элементами, участвующими в действии.
Список литературы Мифологема змееборчества: к проблеме поливалентности символизма дуальных образов
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 томах. [Репринт издания 1865 г., с исправлениями]. Москва : Индрик, 1994. Том 1. 800 с.
- Гейштор А. Мифология славян. Москва : Весь Мир, 2014. 384 с.
- Геннеп А., ван Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. Москва : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.
- Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. Москва : Языки славянской культуры, 2005. 544 с.
- Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Москва : Наука, 1974. 342 с.
- «Когда вверху...» - «Энума Элиш». Поэма о сотворении мира // Я открою тебе сокровенное слово : литература Вавилонии и Ассирии / сост. В. К. Афанасьева, И. М. Дьяконов. Москва : Художественная литература, 1981. С. 32-50.
- Криничная Н. А. Русская мифология: мир образов фольклора. Москва : Академический проект ; Гаудеамус, 2004. 1008 с.
- КуперДж. Энциклопедия символов. Москва : Золотой век, 1995. 402 с.
- Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии / пер., вступ. ст. и коммент. Вяч. Вс. Иванова. Москва : Художественная литература, 1977. 317 с.
- Мешкерис В. А. Змея - хтонический атрибут маргианской богини // КСИА. 1985. Вып. 184. С. 35-41.
- Младшая Эдда. Санкт-Петербург : Наука, 2006. 144 с.
- Рак И. В. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург : У-Фактория, 2007. 400 с.
- Ригведа. Мандалы I-IV. Москва : Наука, 1999. 768 с.
- Славянские древности : этнолингвистический словарь / под ред. Н. И. Толстого. Москва : Международные отношения, 1999. Том 2. 702 с.
- Тарасонов В. М. Символы медицины как отражение врачевания древних народов. Москва : Медицина, 1985. 120 с.
- Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках : [сборник статей] / [АН СССР ; сост. Л. Ш. Рожанский]. Москва : Наука, 1988. С. 7-60.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. Москва : Изд-во Московского университета, 1982. 248 с.
- Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Москва : Политиздат, 1980. 831 с.
- Fontenrose J. (1980) Python: A Study of Delphic Myth and its Origins. Berkeley & Los Angeles: University of California Press (London: Cambridge University Press). 637 p.
- Ogden D. (2013) Dragons, Serpents, and Slayers in the Classical and Early Christian Worlds: A Sourcebook. N.Y.: Oxford University Press. 320 p.
- Ogden D. (2013) Drakon: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds. Oxford: Oxford University Press. 496 p.