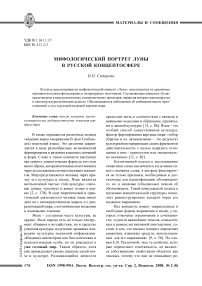Мифологический портрет луны в русской концептосфере
Автор: Сидорова Наталья Павловна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мифологический концепт «Луна», воссоздаются ее архаичные признаки на основе фольклорных и литературных источников. Составляющие концепта «Луна» представлены в виде религиозных и символических признаков, иерархия которых анализируется в лингвокультурологическом аспекте. Обосновываются наблюдения об амбивалентности представлений о луне в русской языковой картине мира.
Текст, концепт, лингвокультурология, амбивалентность, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14969312
IDR: 14969312 | УДК: 811.161.1.37
Текст научной статьи Мифологический портрет луны в русской концептосфере
В языке отражаются различные модели «вúдения мира» (выражение В. фон Гумбольдта) носителей языка. Это различие закрепляется в виде разнообразных возможностей формирования и развития языковых значений и форм. Слово в таком контексте выступает как символ, семиотическая формула того или иного образа, который возможно восстановить через исследование соответствующих концептов. Мир представляется человеку через призму его культуры и языка. Язык является неотъемлемой частью этой культуры: «человек думает, чувствует и живет только в языке» [2, c. 378]. В ходе теоретической и практической деятельности человек чаще имеет дело не с непосредственным миром, а с репрезентацией мира, с когнитивными моделями и языковыми схемами.
Язык – составная часть культуры, ее орудие. Язык народа есть не только инструмент общения и воздействия, но и средство усвоения культуры, получения, хранения и передачи культурно значимой информации. «Индивид неповторим как биологическая и психологическая особь, но он рождается в уже готовый мир. Таким образом, дитя уже принадлежит своему социуму, своей эпохе и культуре. Развивающейся личности предстоит жить в соответствии с явными и неявными моделями и образцами, принятыми в данной культуре» [14, c. 86]. Язык – это особый способ существования культуры, фактор формирования картины мира: «отбор образов и их оязыковление – это результат культурной интерпретации самих фрагментов действительности с целью выразить отношение к ним – ценностное или эмоционально значимое» [12, c. 82].
Когнитивный подход к исследованию семантики слова заключается в изучении самого значения слова, в котором фиксируются не только признаки, необходимые и достаточные для идентификации обозначаемого, но и наивные (обыденные) знания об обозначаемом. Такой комплексный подход к изучению концептуальной структуры позволяет реконструировать концепт через его языковое выражение.
Все концепты имеют закрепленные и свободные формы выражения в языке, у которых отмечены ограничения в сочетаемости; «один из важнейших тезисов, осмысленных в рамках когнитивной лингвистики, состоит в том, что именно концепт определяет семантику языковых средств, использованных для его выражения» [9, c. 36]. По словам Е.В. Рахилиной, «все те свойства, которые определяют сочетаемость, не являются собственными свойствами объектов как таковых, потому что они не описывают ре- альный мир. Они соотносятся лишь с отражением реального мира в языке, то есть с тем, что принято называть языковой картиной мира» [10, c. 338].
Концептуальная система – это основа языковой картины мира [6, c. 40]. Концепты – составные части концептуальной системы – объективируются в виде слов или сочетаний слов, в которых «прочитываются» признаки фрагментов языковой картины мира. Как отмечает И.А. Стернин, «слова выражают в общении коммуникативно релевантные признаки концептов, поэтому ни одно слово ни в одном акте речи не может выразить все содержание концепта», которое «никогда не востребовано в общении в полном объеме в силу своего глобального объема» [11, c. 45].
Признаки концептов, представляющие национальную картину мира, консервативны. И в то же время картина мира народов меняется, структура признаков концептов расширяется за счет продолжающего познания мира. Развитие науки, культурные процессы дополняют сведения о мире. В языке отражены знания о человеке: он описывается как сложное образование, что лишь отчасти можно объяснить существующими и существовавшими ранее мифологическими и религиозными представлениями. Анализ концептов приводит к выявлению архаичных знаний о мире. Эти знания не относятся к разряду научных, это народные, обыденные представления, на них накладывают отпечаток меняющиеся религиозные и научные воззрения социума. «Структура... концепта... изменчива во времени, что обусловлено в целом многочисленными лингвокультуральными факторами (социально-экономическими трансформациями общества, сменой моральных ценностей, выбором ценностных приоритетов и т. п.; языковыми изменениями – заимствования, деривационные процессы, метафори-зация, метонимия и т. п.)» [3, c. 68]. Бытовавшие ранее представления о мире ныне могут быть частично или полностью утрачены, однако язык хранит их в своей основе – концептуальной системе – в виде архаичных признаков. «Под архаичными понятийными понимаются признаки концептов, зафиксированные в исторических и историко-этимологических словарях конкретных языков, но не отмеченные в словарях современных языков, а также признаки, диктуемые языковым материалом, но не зафиксированные в словарях соответствующих периодов. Архаичные признаки выражают наивные, обыденные взгляды народа на мир, которые не утрачены языком, но уже не осознаются носителями современного языка. Архаичные признаки возможны только у тех концептов, история репрезентантов которых достаточно древняя» [6, c. 36].
Луна относится к разряду мифологических концептов, ее архаичные признаки воссоздаются на основе фольклорных и литературных источников. «Культурная память слова настолько консервативна, что донесла до нас реликты древнего знания, показывающие этапы освоения мира, как внешнего, так и внутреннего» [там же, c. 46]. Архаичные составляющие концепта луна представлены в виде религиозных и символических признаков. «В структуры древних концептов входят религиозные и символические признаки. Под религиозными понимаются признаки , которые выражают те или иные особенности мировоззрения, соответствующее поведение и специфические действия, основанные на вере в существование бога или богов. Символическими называются такие признаки , которые восходят к существующему или утраченному мифу и могут восприниматься в виде метафоры, аллегории или культурного знака» [8, c. 252].
В русской языковой картине мира сохранились первичные, дохристианские представления о луне , на которые наслоились символические признаки иных культур. В разных культурах луна почиталась как особая богиня. В античной Греции луна воспринималась по-разному: как дневная Артемида (ее неизменный атрибут – рога на голове), богиня лунного света Селена (прекрасная девушка в длинном одеянии цвета шафрана с лунным серпом на белом лбу); как покровительница колдовства, способная вызывать любовные чары. В русской концептосфере отражено влияние греческой культуры, однако для нее свойственно не разделение разных ипостасей луны, а их совмещение. Например:
Среди прозрачной пены / Летучих облаков / Мелькает рог Селены (Жуковский. К Батюшкову).
Считалось, что колдовские манипуляции особенно действенны при полном сиянии Селены (то есть в полнолуние), и Геката почиталась как богиня мрака, ночных видений и чародейств. Например:
Над ними лик склоняется Гекаты , / Им лунной Греции цветут сады... (Цветаева. Невестам мудрецов).
В римской мифологии Диана считалась олицетворением луны и богиней тройной власти (владычицей трех миров: Неба, Земли и подземного царства). К примеру:
Бледная Диана / Глядела долго девушке в окно (Пушкин. Домик в Коломне).
В западно-семитской (финикийско-сирийской) мифологии олицетворением планеты Венеры была Астарта – богиня любви и плодородия:
Ах, когда б из нитей ясных / Мог соткать я крылья, крылья! / О, Астрата ! Я прославлю / Власть твою без лицемерья, / Дай мне крылья! (Гиппиус. Богиня).
В Финикии луна связывалась с Астартой, в Вавилоне – с Иштар. Причем в Халдее и Вавилоне Луна, как остывшее Солнце, считалась старше последнего.
Если в ряде древних традиций луна представляла женские божества, то в египетских мифах она олицетворяла мужское начало. У многих древних народов лунные боги были богами мудрости. Например, в Египте Тот – бог луны, мудрости, его часто изображали в виде человека с головой ибиса. Тот разделил время на годы, месяцы, дни и вел им счет. Хонсу в египетской мифологии также бог луны, на дошедших до нас изображениях Хонсу чаще всего мы видим юношу с серпом и диском луны на голове. В Индии Луной-богом был сын Сомы-Луны Будха, в Халдее Нэбо выступал лунным богом сокровенной Мудрости. Луна в русской концептос-фере символизирует женское начало, месяц – мужское (в русском языке это подтверждается грамматически – родом имени: исследуемый концепт в русском языке вербализуется двумя основными способами – при помощи лексем луна и месяц ).
В авторских картинах мира возможны собственные истолкования символов луны: с луной, ночной порой А.С. Пушкин ассоциирует Эрота [8, c. 297], а не указанных богов и богинь:
Итак, с вечернею луною , / В саду нельзя ли дерн одеть / Узорной белой пеленою? / На темный берег сонных вод, / Где мы вели беседы наши, / Нельзя ль, устроя длинный ход, / Нести наполненные чаши? / Зовите на последний пир / Спесивой Семелеи сына, / Эрота, друга наших лир, / Богов и смертных властелина... (Пушкин. Мое завещание друзьям).
М. Волошин именует луну Афеей:
Из-за скал кривится лунный рог , / Спускаясь вниз, алея, багровея... / Двурогая! Трехликая! Афея! (Волошин. Lunaria);
И. Северянин – Скандой:
Плывет златоликая Сканда / В лазурной галере ко мне (Северянин. Балтийское море).
Теоморфные (божественные) признаки луны выражаются через эстетические признаки внешности – луна красивая:
Только тогда вы истинно живете, только тогда вы в самом деле видите, как солнце светит, как луна красива и таинственна, как хороши летние теплые ночи (Арцыбашев. У последней черты);
прекрасная:
О, скоро ль, мрак ночной, / С прекрасною луной / Ты небом овладеешь? (Пушкин. Фавн и пастушка);
роскошная:
В темном небе роскошная светит луна (Блок. Ночь на землю сошла);
дивная:
Дивною твоей луною / Был я по морю ведом; / Тьма сверкала подо мною, / Зыбь горела за веслом! (Кюхельбекер. Ницца);
прелестная:
Но, больше нашею любовию полны, / Чем тихим вечером и прелестью луны , / Влюбленные глаза друг к другу обращали / И в долгий поцелуй уста свои сливали... (Некрасов. Говорун).
Перечень религиозных признаков луны весьма разнообразен: ‘величественность’:
Когда на своде голубом / Выходит месяц величавый , / И вечер пасмурным крылом / Оденет дерптские дубравы, / Один, под кровом тишины, / Я здесь беседую с минувшими веками (Языков. В.М. Княжевичу);
‘воскресение’. Смертность – это свойство смертных, луна – бессмертна:
И если предо мною, / Над лоном сонных вод, / Бессмертною Луною / Блистает небосвод... (Бальмонт. Смешались дни и ночи).
Луна входит в сонм богов посредством признаков родства с ними: луна – дочь неба:
Луна – небосклона вечерняя дочь – / Чело облаками затмила... (Муравьев. Хоры Перуну);
небесная невеста:
Между тем буря стихла, небо выяснело, луна , будто невеста под дымчатым покровом, свежа, как из купели, возникла на краю небосклона (Бестужев-Марлинский. Вадимов);
она же мать призрачных теней:
Не ты ли мать Фантомов , Луна , волшебств богиня! (Востоков. Царство очарований).
Лицо богини-Луны чаще всего описывается через стилистически окрашенную лексему лик , которая относится к высокому (поэтическому) стилю:
Полной Луны переменчивый лик (Бальмонт. Песня без слов).
Луне приписывалась магическая сила: «в большинстве первобытных традиций рог знаменует силу и власть. С образом луны соотносится корова» [7, c. 298]. Египетская Исида, покровительница растительных сил природы, изображается с коровьими рогами. Рогатость луны – общеизвестный ее признак в русской концептосфере [ср.: двурогая луна; Вот из-за скал кривится лунный рог (Волошин. Lunaria)]. В Библии рога – символ силы, его истоки прослеживаются в иудейской религии, где рога представляют
«всеобъемлющую власть Бога Иеговы» [13, c. 306–307].
Лингвокультурологи акцентируют внимание на отражении в концепте культурной, исторической памяти народа, поэтому для представителей данного направления весьма важно введенное Д.С. Лихачевым понятие концептосферы национального языка, соотносимой «со всем историческим опытом нации и религией особенно» [4, c. 5]. Можно говорить об универсальных и национальных компонентах структур концептов в концептос-фере той или иной этнической общности. Универсальными в структуре исследуемого концепта будут выступать понятийные признаки (‘небесное тело’, ‘спутник земли’, ‘светило’ и т. д.). Особенностью концепта луна является наличие культурологического компонента, изучив который, можно составить представление об этнической специфике этого небесного явления. Усвоенные культурные концепты влияют на человека и определяют его жизнь в обществе. Как заметил еще Н.А. Бердяев, в душе русского человека слиты воедино христианство и язычески-мифологическое представление о мире: «в типе русского человека всегда сталкиваются два элемента – первобытное, природное язычество и православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру» [1, c. 8].
Мир внутренний – прерогатива религии. Представления о внешнем облике Бога связаны с христианскими традициями: Бог появляется среди людей в виде голубя, символа чистоты. В русской языковой картине мира наблюдается амбивалентность в представлениях о луне ; ср.: ‘луна-творение’ и ‘луна-творец’. Народное представление о Боге связано с небом, место луны – тоже. Исследование показывает, что изменения в системе верований повлекли за собой появление образов, зафиксированных в тексте Библии.
Список литературы Мифологический портрет луны в русской концептосфере
- Бердяев, Н. А. О назначении человека/Н. А. Бердяев. -М., 1993.
- Гумбольдт, В. Язык и философия культуры/В. Гумбольдт. -М., 1985.
- Красавский, Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах/Н. А. Красавский. -Волгоград: Перемена, 2001. -494 с.
- Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка/Д. С. Лихачев//Известия РАН. Сер. лит. и яз. -1993. -Вып. 1. -С. 4-10.
- Пименова, М. В. Душа и дух: особенности концептуализации/М. В. Пименова. -Кемерово: Графика, 2004. -386 с. -(Серия «Концептуальные исследования»; вып. 3).
- Пименова, М. В. К вопросу о культурной памяти слова (образы сердца в русском и английском языках)/М. В. Пименова//Язык. Человек. Картина мира: лингвоантропологические и философские очерки. -Омск: Вариант-Омск, 2006. -С. 36-47.
- Пименова, М. В. Образы и символы луны в произведениях А. С. Пушкина/М. В. Пименова//Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты. -Чита, 2007. -С. 260-264.
- Пименова, М. В. Религия как источник метафорической экспансии (теоморфные признаки концептов сердце и heart)/М. В. Пименова//Сибирь на перекрестье мировых религий: материалы III межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. М. И. Рижского. -Новосибирск, 2006. -С. 252-257.
- Попова, З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике/З. Д. Попова, И. А. Стернин. -Воронеж: Истоки, 2001. -192 с.
- Рахилина, Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость/Е. В. Рахилина. -М., 2000.
- Стернин, И. А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях/И. А. Стернин//Попова, З. Д. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие/З. Д. Попова, И. А. Стернин, В. И. Карасик [и др.]; отв. ред. М. В. Пименова. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. -(Серия «Концептуальные исследования»; вып. 4). -С. 45-52.
- Телия, В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/В. Н. Телия. -М.: Яз. рус. культуры, 1996. -285 с.
- Тресиддер, Дж. Словарь символов/Дж. Тресиддер. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. -448 с.
- Фрумкина, Р. М. Психолингвистика/Р. М. Фрумкина. -М.: Academia, 2001. -320 с.