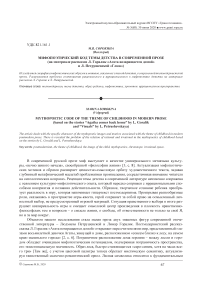Мифопоэтический код темы детства в современной прозе (на материале рассказов Л. Горалик "Агата возвращается домой" и Л. Петрушевской "Глюк")
Автор: Сорокина Марина Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (68), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуется специфика мифопоэтических образов и мотивов, связанных с темой детства, в современной постмодернистской прозы. Раскрывается проблема соотношения рационального и иррационального в мифопоэтике детства на материале рассказов Л. Горалик и Л. Петрушевской.
Постмодернизм, тема детства, образ ребенка, мифопоэтика, хронотоп. иррациональное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/148310503
IDR: 148310503 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мифопоэтический код темы детства в современной прозе (на материале рассказов Л. Горалик "Агата возвращается домой" и Л. Петрушевской "Глюк")
В современной русской прозе миф выступает в качестве универсального метаязыка культуры, «вечно живого начала», своеобразной «философии жизни» [3, с. 8]. Актуализация мифопоэтических мотивов и образов расширяет ценностно-смысловую орбиту художественного текста, задавая глубинный метафизический масштаб проблематики произведения, сосредотачивая внимание читателя на онтологических вопросах. Рецепция темы детства в современной литературе неизменно сопряжена с освоением культурно-мифологического опыта, который нередко сопряжен с иррациональными способами восприятия и познания действительности. Образное, творческое сознание ребенка преобразует реальность в игру, которая напоминает гипертекст постмодернизма. Проигрывая разнообразные роли, оказываясь в пространстве игры-квеста, герой сохраняет за собой право на осмысленный личностный выбор, не предусмотренный игровой матрицей. Ситуация нравственного выбора в итоге разрушает квазиреальность игры и смещает смысловой центр произведения в плоскость нравственнофилософских тем и вопросов – о смысле жизни, о свободе, об ответственности не только за своё Я, но и за мир вокруг.
Объектом нашего исследования стала малая проза двух знаковых фигур современной отечественной литературы – Людмилы Петрушевской и Линор Горалик. Постмодернистский рассказ-сказка Л. Горалик «Агата возвращается домой» открывает перед читателями мир, представленный глазами восьмилетней девочки Агаты, живущей в доме, расположенном «совсем близко к лесу, на самом краю маленького города» [2, с. 6]. Пограничное расположение дома героини - между лесом и городом обладает очевидным мифопоэтическим потенциалом, подчеркивая пограничность пространства, его экзистенциальную значимость. Образ леса, быстро становящегося «серо-синим, хотя на часах всего три» [Там же], с учетом цветовой палитры топоса обретает мистическую семантику, актуализируя таинственный сказочно-романтический ореол. Лесная символика относится к фундаментальным образам-мифологемам, имеющим особое значение в русском фольклоре и литературе. За этим топосом закрепляется значение «страшного места», в котором обитают не только волки («Красная Шапочка»), но и злые духи (Леший, Баба-Яга и др.). В произведении Л. Горалик сказочный лес представлен в трех ипостасях: деревянный, стеклянный и оловянный. Наблюдается притязание «не только на подобие, но на полное, по крайней мере, структурное тождество миромодели» [4, с. 136], где сама реальность ускользает, замещаясь языковой игрой.
Пейзаж в сказке характеризуется как праздничный, сказочный, что соотносится с жанровой спецификой святочного рассказа («все палисадники уже украшены рождественскими гирляндами, электрическими оленями, медленно поворачивающими голову, когда ты проходишь мимо, и ненастоящими Санта-Клаусами» [2, с. 6]), однако эффект создается отнюдь не торжественный, а скорее театрально-маскарадный, игровой, «масочный». В итоге пейзажные характеристики трансформируются в театрально-драматические, а искусственно выстроенная реальность становится определяющей и тотальной.
Поход девочки в лес – тоже своеобразная детская игра: Агата вытаптывает «кружочек, потом – ёлочку: пятка к пятке, пятка к пятке. Чтобы не испортить елочку, она отпрыгивает от нее подальше и бежит к первому дереву» [2, с. 7]. Влекомая новым развлечением, маленькая девочка быстро забывает о наставлении родителей: «Ей немного страшно, немного стыдно и очень весело» [Там же]. Таким образом, в тексте реализуется мифопоэтический мотив нарушения запрета, служащий зачином сказки.
Рассказ Л. Петрушевской «Глюк», как и произведение Л. Горалик, повествует о необычном происшествии, главным героем которого выступает ребенок - школьница Таня. В соответствии с возрастными особенностями волшебство имеет несколько иную направленность, а нарушение запретов – более серьезные последствия. Хронотоп произведения, в отличие от пространственно-временного континуума сказки о девочке Агате, не несет в себе узнаваемых мифопоэтических признаков. Из родительского дома Таня переносится в заграничный двухэтажный коттедж на берегу моря с розовой мебелью «как в кукольном доме. Мечта!» [5, с. 37]. Традиционно образ дома «является смысловым и пространственно-энергетическим центром, вокруг которого группируются другие мифологемы и образы» [4, с. 60]. Дом «медиирует между этим и иным миром» [Там же], поэтому потустороннее видение предстает перед школьницей именно дома. Появление так называемого Глюка, который «красивый как киноартист (сами знаете кто)», а «одет как модель» [5, с. 35], вызвано таблеткой, принятой подростком на дискотеке. Употребление девочкой наркотического вещества отсылает нас к мотиву нарушения запрета, однако данный запрет носит не традиционный для сказки характер (например, запрет открывать дверь постороннему человеку), а обусловлен социальными и административными нормами. В образе галлюцинации предстает нечистая сила, выполняющая одновременно функции и волшебного помощника, и злого искусителя. «Как дела, - спросил Глюк. - Ты не стесняйся, это ведь волшебство» [Там же].
В соответствии с жанровыми традициями, героиня Л. Горалик также встречается в темном лесу с нечистой силой – маленьким бесёнком: «перед ней, дрожа и скорчившись в клубочек, сидит кто-то, – да, кто-то, весь в снегу, со свалявшейся шерстью, - и жалобно скулит. <_> Неизвестно кто бросается в сторону, потом в другую, но не может убежать, и Агата понимает, что стоит правой ногой на кончике его хвоста» [2, с. 8–9]. Сказочная нежить в тексте Л. Горалик имеет «рожки, крошечные копытца, робко прижатые к груди», и «от него очень сильно пахнет, - так пахнет от Мелиссиной собаки, Трикси, если той доведется вываляться в луже» [Там же, с. 9].
Исследователь Е.М. Мелетинский отметил, что «в литературном мифологизме на первый план выступает идея вечной циклической повторяемости первичных мифологических прототипов под разными “масками”» [3, с. 8]. Глюк из рассказа Л.С. Петрушевской воплощен, по мнению Тани, в образе некой популярной знаменитости, однако под привлекательной внешностью скрывается образ искусителя Люцифера, злого духа и повелителя Ада. Он же выступает и под маской человека, в большой серой шубе «из жесткого меха» [2, с. 17] и представляется как отец бесенка. «Ничего страшного в этом человеке нет, он держит Агату за руку и смотрит ей в глаза с хорошей, мягкой улыбкой. Восьмилетняя девочка играет в ладоши с самим дьяволом, чувствуя “что может продолжать игру <…> всю жизнь”, даже не понимая “как еще минуту назад могла мечтать попасть домой”» [2, с. 18-19]. Л. Гора-лик не случайно обращается именно к этому виду контакта между своими героями: испокон веку хлопки в ладоши определялись как язык неземного, нечеловеческого мира, а сама рука - «своего рода рупор сакральной речи, окно в потусторонний мир» [6]. Так, сверхъестественные существа через ладонь видят все тайные помыслы человека, и Люцифер «считывает» опасения Агаты остаться обделенной родительской лаской и заботой из-за скорого появления на свет младшего братика или сестрички, предлагает ей в качестве благодарности за игру чью угодно любовь. «Тебе не надо будет завоевывать сердца, не надо будет мучиться сомнениями, не надо будет страдать от неразделенной любви» [2, с. 25].
Вызванная психотропными веществами нечистая сила в рассказе Л.С. Петрушевской также обладает всеведением: «Я все про тебя знаю. Конечно! Это ведь волшебство» [5, с. 36]. Глюк уверяет Таню, что «математику всегда можно подогнать», что «если тебе вымыть голову, если погулять недельку по часу в день просто на воздухе, а не по рынку, ты будешь красивей чем она (сама знаешь кто)», а «чтобы сбросить лишние три килограмма, надо просто не есть без конца сладкое» [Там же]. Дьявол предлагает девочке хорошо подумать и загадать три своих заветных желания - соответствие мифопоэтическому закону троичности (в сказках герои выдерживают три испытания, имеют три попытки для достижения необходимого результата, загадывают три желания). Кроме того, героиня Л.С. Петрушевской три раза меняет свое решение: загадав «много денег, большой дом на море… и жить за границей» [5, с. 37], девочка не почувствовала себя счастливой, как и после воплощения в жизнь мечты оказаться «в своем доме с полным холодильником, и чтобы все ребята из класса были, и телефон позвонить маме» [Там же, с. 41]. Обладание материальными ценностями не приносит Тане радости, ведь «Сережка как сидел с Катей, так и сидел» [Там же, с. 42]. Только вернув все на свои места («Хочу, чтобы все спаслись. Чтобы все было как раньше» [Там же, с. 45]), подросток обретает покой и прозрение: «Какой страшный сон мне приснился!» [Там же, с. 45]. Таким образом, в тексте не только реализуется характерные для детской темы дидактический элемент, но и утверждается приоритет духовного над материальным, развенчиваются типичные подростковые иллюзии. Никакие деньги и блага не способны сделать человека счастливым, если он не имеет четкой жизненной цели и не обладает необходимыми нравственными качествами.
В рассказе Л. Горалик ребенок отлично понимает, с кем имеет дело, и боится, что Сатана предлагает сделку, поэтому «Агата быстро зажимает рот рукой» [2, с. 22], чтобы искуситель не мог забрать ее душу. Однако бес уверяет, что «это настоящий подарок» [Там же, с. 23], что он не хочет ничего взамен. Бес сначала протягивает «ладонь, на которой лежит невзрачное деревянное колечко», позволяющее «выходить из любой переделки целой и невредимой» [Там же, с. 23], но Агата отвергает этот подарок. Тогда дьявол предлагает девочке фактически всемогущество: «Только захоти, - и я приду и сделаю все, что ты попросишь», и «в его пальцах поблескивает маленькое стеклянное колечко, прозрачное, хрупкое» [Там же, с. 26], которое Агата принимает, лишь бы скорее оказаться дома.
Образ волшебного кольца присутствует почти во всех легендах и мифах в качестве одного из проявлений волшебного помощника. В рассказе Л. Горалик этот символ интертекстуально пересекается с романом Дж. Толкина «Властелин колец» (кольцо Всевластья). К сказочным мотивам в сказке «Агата возвращается домой» относится и троекратность совершаемого действия: бес-отец предлагает девочке три подарка, игра в ладоши чуть ли не совершается в третий раз («Третий раз разорвет тебе сердце, Агата» [Там же, с. 33]). Болезнь Агаты после возвращения домой отсылает читателя к мотиву расплаты человека за неосторожность в общении с нечистой силой (у Агаты «ломит руки, ноги, ломит всё тело. Мама меряет Агате температуру. У Агаты жар» [Там же, с. 29]).
Этот же мотив прослеживается и в рассказе Л.С. Петрушевской. Школьница оказывается в угрожающей жизни ситуации: «Стало нечем дышать, Таня начала рваться, но тяжелая рука расплющила ее лицо, пальцы стали давить на глаза... Таня извивалась, как могла, и Никола прыгнул на нее коленя- ми, повторяя, что сейчас возьмет бритву...» [5, с. 44]. По возвращении домой героиню настигает тяжелая болезнь: «Да у тебя был бред целую неделю. Мама тебе уколы делала. Ты на каком-то языке даже говорила» [Там же, с. 45]. Однако игра продолжает сохранять для героини искусительную привлекательность: «Она лежала и думала, что в косметичке, которая была спрятана в рюкзаке, находится таблетка с дискотеки, за которую надо отдать Николе деньги… Ничего не кончилось. Но все были живы» [Там же, с. 46].
Подводя некоторые итоги, отметим, что в рассказе Л. Петрушевской мифопоэтические образы, сопряженные с темой детства, пародийно снижены и гротескны. Автор рисует мир, полный жестокости и равнодушия. Приземленные желания Тани – это отражение того духовного упадка и пустоты – всеобщего хаоса, которые царят вокруг героини и лишь маскируются под внешнее благополучие. Героиня Л. Горалик переживает искушение злом и пороком, которые так же стали неотъемлемой частью реальности. И для обеих героинь решающим становится вопрос нравственного выбора в ситуации экзистенциального пограничья. Важную роль в структуре рассказов Л. Петрушевской и Л. Горалик играет смешение реального и ирреального – фантастического планов. Порой они так тесно взаимодействуют друг с другом, что можно говорить о проницаемости границ между этими сферами. Реальность ускользает и трансформируется, как в сюрреалистическом бреде. В рассказе Петрушевской «Глюк» «целый класс валяется, Сережка вообще в больницу попал. Катя тоже без сознания неделю, но она раньше всех заболела. Говорила про вас, что все в каком-то розовом доме... Бред несла. Просила спасти Сережу» [Там же, с. 45–46]). В сказке Л. Горалик «Агата вылезает из кровати. <…> От слабости ей хочется лечь на снег и поспать, но Агата ищет кольцо и, наконец, находит его в маленьком сугробе» [2, с. 29]. Подобные трансформации свидетельствуют о смещении границ Хаоса и Космоса в современном мире, о ситуации зыбкого пограничья добра и зла, куда, как в воронку, искушаемые иллюзиями и суррогатами счастья (символично, что Das Gluck в переводе с немецкого – «счастье»), попадают и дети, и взрослые. Вместе с тем мотив возвращения домой вселяет в читателя хрупкую надежду на обретение первозданного порядка, преображения Хаоса в Космос. Однако финалы обоих рассказов открыты: герои остаются в ситуации нравственного выбора, но это и определяет в итоге смысл человеческого бытия, свободу человеческого духа в поиске истины. Недаром заключительные строки рассказа Л.С. Петрушевской грамматически фиксируют настоящее длительное время, перетекающее в вечность: «Ничего не кончилось. Но все были живы» [5, с. 46].
Список литературы Мифопоэтический код темы детства в современной прозе (на материале рассказов Л. Горалик "Агата возвращается домой" и Л. Петрушевской "Глюк")
- Безруков А.Н. Мифопоэтика постмодернистского текста // Вестник Димитровград. инженер.-технологич. ин-та. 2017. № 1(12). С. 133-146.
- Горалик Л. Агата возвращается домой. М.: Livebook, 2016.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.ф
- Петрова М. Образ дома в фольклоре и мифе // Серия "Symposium". Эстетика сегодня: состояние, перспективы. Вып. 1.: материалы науч. конф., тезисы докладов и выступлений (20-21 окт. 1999 г.). СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 1999. C. 59-61.
- Петрушевская Л.С. Глюк // Где я была. М.: Вагриус, 2002. С. 35-46.
- Плуцер-Сарно А.Ю. Символика рукоплескания // Новое литературное обозрение. 2004. № 5(69).