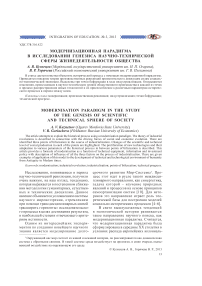Модернизационная парадигма в исследовании генезиса научно-технической сферы жизнедеятельности общества
Автор: Кузнецов Алексей Владимирович, Горячева Варвара Руслановна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Модернизация образования
Статья в выпуске: 3 (72), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье дается попытка объяснить исторический процесс с помощью модернизационной парадигмы. Приводится описание теории производственных революций применительно к движущим силам социально-экономической эволюции. Выделены три точки бифуркации в ходе индустриализации. Описываются изменения, происходящие в научно-техническом уровне общественного производства в каждой из точек и процесс распространения новых технологий и их приспособление к различным параметрам исторического процесса в период между ними.
Модернизация, производственная революция, индустриализация, точки бифуркации, технический прогресс
Короткий адрес: https://sciup.org/147136965
IDR: 147136965 | УДК: 378:316.422
Текст научной статьи Модернизационная парадигма в исследовании генезиса научно-технической сферы жизнедеятельности общества
Исследования, появившиеся в период научно-технической революции, получили очень важную, на наш взгляд, тенденцию, которая выражается в постепенном сближении методологии гуманитарных, естественных и технических дисциплин. Данное явление объясняется усложнением системы научного мировоззрения, стремлением при помощи трансдисциплинарных связей «расширить горизонты» исследовательского процесса в целях достижения результата, в наибольшей степени отвечающего критериям истинности.
Одним из интереснейших экспериментов по созданию новейшего научного знания является моделирование долго- срочного развития Мир-Системы1. Процесс этот идет в русле такого междисциплинарного направления, как синергетика, задача которой – изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем [10]. Для историков это направление играет роль теоретической базы для построения моделей социально-исторических процессов [4–6].
В свете вышеуказанных тенденций в экономической истории развивается такое направление научного поиска, как модернизационная парадигма. Считается, что модернизационная парадигма была сформулирована в середине XX столетия в условиях распада европейских колониаль- ных империй и появления большого количества «молодых наций» в Азии, Африке и Латинской Америке. Ее использование открывает большие перспективы для объяснения исторического прогресса нового и новейшего времени [19–22].
Определим сущность данной парадигмы, для чего нам необходимо рассмотреть сам термин «модернизация», что под ним подразумевает современная наука.
Согласно «Энциклопедии социологии» модернизация – это общественно-исторический процесс, в ходе которого традиционные общества становятся прогрессивными, индустриально развитыми [25]. В этой связи «Новейший философский словарь» выделяет концепцию модернизации, которая является одним из содержательных аспектов концепции индустриализации, а именно теоретической моделью семантических и аксиологических трансформаций сознания и культуры в контексте становления индустриального общества [18].
Однако с точки зрения технических наук все гораздо проще: модернизация (от франц. moderne – новейший, современный) – всякое изменение объекта в соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами, например обновление технического оборудования, производственного процесса и т. п. [3].
Как пишет современный исследователь методологии социальных наук И. В. Забаев, проблема модернизации – это вопрос: что такое современное общество и как оно таковым стало [13, с. 229–230]. Притом становление это имеет свойство рефлексии.
В социальных науках данное понятие осмыслялось Э. Дюркгеймом [12] как процесс социальной дифференциации, посредством которого осуществлялось общественное разделение труда; М. Вебером [7] – как процесс рационализации, в ходе которого хозяйствующие субъекты стремились максимально повысить собственную экономическую отдачу; К. Марксом [16] – как процесс товаризации, в ходе которого товары и услуги все более и более производились для рынка.
В целом анализ вышеуказанных точек зрения подводит нас к тому, что модернизация с самого начала рассматривалась прежде всего как рационализация всех направлений жизни человека и общества [13, с. 229–230].
Видный теоретик «Франкфуртской школы» Ю. Хабермас связывает генезис теории модернизации с социологией, настаивая на том, что последняя возникает как теория буржуазного общества, на долю которой выпадает задача объяснить протекание и анатомические формы проявления капиталистической модернизации добуржуазных обществ [24].
В конечном итоге мы видим, что теория модернизации – это условная совокупность разнородных концепций общественно-экономического и политического развития, объясняющих процесс перехода от одной модели социально-экономического развития к другой, более динамичной. В этой связи российской наукой все чаще рассматривается вопрос о так называемой Петровской модернизации. Эта концепция в большей степени коррелирует с технической интерпретацией данного термина, ведь реформы Петра I изменили не только внешнюю составляющую русского культурно-исторического типа – «фасад Империи», но и внутреннее устройство системы.
Использование модернизационных моделей открывает большие возможности для объяснения исторического процесса. Однако с концепцией модернизации неразрывно связан вопрос о принципах и структуре движущей силы социально-экономической эволюции.
Фазы технико-технологической модернизации, по нашему мнению, логически связаны с «теорией производственных революций», получившей наиболее обоснованную парадигму в работах современного ученого, автора теории «принципов производственных благ» Л. Е. Гринина [8; 23]. Производственную революцию он определил как коренной переворот в мировых производительных силах, связанный с переходом к новому принципу хозяйствования не только в технологиях, но и во взаимоотношениях общества и природы. Ученый полагает, что в отличие от различных технических переворотов производственная революция затрагивает не отдельные важные отрасли, а все хо- зяйство в целом. В конечном счете новые направления хозяйствования становятся доминирующими [8, с. 214].
Всего насчитывается три производственных революции: аграрная, промышленная и научно-техническая. В данном случае нас интересует промышленная революция, или индустриализация, в ходе которой биологическая энергия, используемая в процессе производства, была заменена водой и паром. Это способствовало процессу трудосбережения не только в физическом труде, но также и в учете, контроле, управлении, обмене и т. д. [8, с. 215].
Впрочем, в ходе раскрытия темы мы постараемся отойти от термина «революция», так как он характеризует скачкообразный процесс глубоких, коренных изменений. Индустриализация – результат длительного накопления количественных и качественных модификаций, ведущих к нарастающему усложнению общественного разделения труда. Само общество является динамической системой, на которую действует закон, при котором оно переходит от одного состояния к другому. Согласно теории самоорганизации такой переход обусловлен флуктуациями и ограничивается точками бифуркации. Таким образом, бифуркация – это приобретение нового качества в движениях динамической системы. Например, в ходе индустриализации мы выделяем три бифуркации в процессе технико-технологической модернизации: замена ручного труда механическим при применении энергии воды, затем пара, а в дальнейшем – электроэнергии.
Обратим внимание на первую точку бифуркации. В этот период генерировался потенциал, включавший в себя совокупность материальных и духовных ресурсов, определяющих научно-технический уровень общественного производства в исторически определенных социально-экономических условиях. На уровне когнитивной дифференциации эксперименты по внедрению тех или иных устройств имеют достаточно древнюю историю и восходят к достижениям античной натурфилософии. Динамичное же сочетание реализуемых и еще не используемых научных и технических достижений в области гидроэнергетики проявилось в Европе в XV–XVI вв.
Каждый период между бифуркациями связан с распространением новых технологий и их приспособлением к различным параметрам исторического процесса отдельно взятого элемента Мир-Системы, в результате чего создаются условия для следующего состояния фазового перехода. В начале формируются очаги нового принципа производства (модернизация), затем последний распространяется на новые общества и территории, между которыми происходит обмен достижениями в самой разной форме. Здесь большую роль, кроме горизонтального взаимообмена между отдельными представителями различных культурно-исторических типов [9], играет вертикальный обмен (индустриальное наследие) от поколения к поколению, который облегчает процесс усвоения производственных достижений, расширяет практику их применения.
Дальнейшее обсуждение данного предмета иллюстрирует формула зависимости модернизационных процессов от инвестиционной политики (частного или государственного характера) и совокупности взаимосвязанных научно-технических процессов:
М = InoX •/(t, I), где Iπολ – инвестиционная политика, t – уровень технической оснащенности производства и I – информация.
Если культурно-исторический тип на каком-то этапе своего развития располагает уровнем технической оснащенности, стремящимся к нулю, при отсутствии информации, то, соответственно, не будет и возможности для развития модернизационных процессов. Значение Iπολ тоже может быть отрицательным при чрезмерном уровне эксплуатации (отрицательные инвестиции). При этом, исходя из исторического опыта, мы знаем, что М может иметь отрицательное значение (регресс):
-
- М = - Iπολ ·ƒ(t→0).
Данная ситуация описывается Ле Гоффом в отношении экономики периода зарождения «цивилизации средневекового Запада» [15, с. 184–232]. То есть, определенный регресс наблюдается при смене прежней
Мир-Системы (к примеру Pax Romana) новыми культурно-историческими типам.
Для того чтобы величина трех факторов модернизации была положительной, необходимо ввести новый феномен или сумму феноменов. Дело в том, что вышеописанная формула работает при постоянной средств воздействия (давления):
р = const.
Следовательно, можно предположить, что при усилении воздействия изменится значение Iπολ .
Опишем данный вывод исходя из закономерностей исторического процесса. В период когнитивной дифференциации, при слабом развитии науки и низком уровне образования, технические новинки появляются как абстрактные ценности, значимость которых в экономическом плане не может определить сам создатель. Внедрения в производство еще нет, поэтому величина t остается неизменной. Однако при этом возникает вероятность распространения информации. Ученые-теоретики описывают абстрактное устройство, постепенно приходя к выводу о его практической значимости. Информация доходит до общественного института или его представителя, обладающего возможностью оказывать воздействие. Это может быть как отдельно взятый представитель феодальной иерархии, так и государство в целом. Давление способствует изменению значения Iπολ с отрицательного или нейтрального на положительное. Возникает импульс, обуславливающий изменение модернизационной парадигмы.
Рассмотрим данную модель применительно к развитию технико-технологической среды человечества в период с Античности до Нового времени. Античная наука и техника развивались в значительной степени независимо друг от друга: ремесло, металлургия, строительное дело, решения ряда инженерных задач находились уже в VI в. до н. э. на довольно высоком уровне, в то время как теория была еще в самом зачаточном состоянии. Но, как отметили авторы специального труда по истории древних изобретений П. Джеймс и Н. Торп [11], к III веку до н. э. философия и экспериментирование воплотились в изящно-стройной системе Страто, физика, возглавлявшего Афинский лицей (между 287—269 гг. до н. э.). Другим великим эллинским инженером был Филон Византийский (III в. до н. э.), известный своими сочинениями по прикладной механике, часть из которых сохранилась до настоящего времени. Будучи по профессии военным инженером, он работал как в Александрии, так и на Родосе. Его главный труд об использовании научных знаний в военном деле изложен в 9-томном трактате (Mechanike syntaxis). Однако ученый также разделял увлечения александрийцев разного рода безделушками, в одной из которых применен карданов подвес. Вероятнее всего, последний не имел практического применения и был надолго забыт. Повторно он был изобретен во времена китайской династии Хань около 100 г. до н. э. и снова открыт в Европе в XIII в. – в обоих случаях для использования в кадиле с ладаном. В 1546 г. испанцы усовершенствовали китайское изобретение компаса, подвесив его на кардановом подвесе, что позволяло компасу сохранить стабильное положение несмотря на внешние колебания. П. Джеймс и Н. Торп предположили, что главным вкладом европейцев в усовершенствование компаса было явно новое применение сконструированной греками 18 столетий назад действующей игрушки [11, с. 153–156].
В западной части античного мира вопросами применения механических конструкций в практику занимался Архимед (287–212 до н. э.). Среди античных механиков, как теоретиков, так и практиков, он наиболее полно описал и применил блочно-рычажные механизмы [2, с. 272–297].
Важным свидетельством тому, что античные техники научились практически применять такой сложный механизм, как дифференциальная передача, уже во II в. до н. э., служит находка Антикитерского механизма [27].
Столь же впечатляющими стали примеры использования энергии воды для получения механической работы. Водяная мельница была известна в Иллирии со II в. до н. э., а в Малой Азии начала применяться, по некоторым данным, примерно на столетие позднее. Витрувий (вторая половина
I в. до н. э.) показал, что римляне внесли в устройство водяных мельниц существенное усовершенствование [31]. Они поменяли горизонтальные колеса на вертикальные с зубчатой передачей, которая соединяла горизонтальную ось колеса с вертикальной осью жерновов [15, с. 184].
Самое раннее непосредственное археологическое доказательство существования в Римской империи водяного колеса найдено в Венафро, деревне неподалеку от Помпеи. Здесь в результате извержения Везувия в 79 г. н. э. было погребено вертикальное водяное колесо, в лаве сохранился его след. Самый большой комплекс римских водяных колес находился в Барбегале неподалеку от Арля (Южная Франция). Он датируется примерно 300 г. н. э. Вода из р. Дюране с крутого холма переводилась по акведуку, имеющему два лотка, каждый из которых спускался с холма ступенями. Всего в сооружении насчитывалось 16 черпаковых водяных колес, обеспечивавших мощность свыше 30 л. с. Поток мог регулироваться посредством использования внешнего желоба в качестве водослива.
Китай также может претендовать на лидерство в этом аспекте, хотя имеющаяся ссылка не так прямо указывает на это: согласно историческим записям сверхсложное гидроэнергетическое устройство для раздувания кузнечных мехов было изобретено примерно в 31 г. н. э. управляющим Ту Ши. Маловероятно, чтобы китайцы так быстро достигли подобного уровня развития, им должны были предшествовать более простые в техническом плане водяные колеса. Существуют записи относительно использования воды для приведения в действие дробильных машин в 20 г. н. э., но не приближавшимся так близко к технологическим достижениям, как в случае с кузнечными мехами Ту Ши [11, с. 479–481].
Наконец, античный культурно-исторический тип показал свою непревзойденность (вплоть до конца эпохи Средневековья) в технике ведения горных работ. В 1920 г. в римских шахтах в Рио-Тинто (Испания) археологи обнаружили «гнездо» деревянных водяных колес на бронзовых осях диаметром 4,5 м и винты к устройству, изобретенному Архимедом для подъема воды. Винты и колеса запускались вручную с помощью рабочей силы. Благодаря им в рудниках обеспечивалась непрерывная откачка воды и, следовательно, можно было осуществлять проходку на большую глубину [11, с. 505–506].
К III в. н. э. Александрия пришла в упадок. В последующие столетия ее центры образования и науки пострадали от внешних и внутренних угроз. К тому времени, когда библиотека была сожжена арабами во время вторжения в Египет в 640 г. н. э., золотой век греческой науки закончился. Однако некоторые рукописи сохранились благодаря арабским завоевателям. В средние века, последовавшие за падением Римской империи, инженерные достижения Александрии сохранились и развивались в исламском мире. Более того, необходимо заметить, что инженерам исламского мира удалось сохранить больше достижений греко-римской технологии, чем их европейским конкурентам [30, с. 128–129]. Первым шагом в этом направлении были перевод античных научных трактатов и распространение технических знаний, берущих начало в эллинской культуре. «Это явление послужило причиной, когда исламский мир опередил Европу и стал знаменосцем мировой науки и просвещения» [14, с. 49].
В IX в. н. э. главными преемниками александрийских ученых стали три брата-иракца из рода Бану Муса в Багдаде. В 1204 г. Аль Джазири издал «Книгу знаний об остроумных механических устройствах» с описанием технических новинок. В основном приспособления представляли собой различные механизмы, доведенные до совершенства благодаря достижениям александрийской науки в области пневматики и гидравлики [11, с. 183–184]. Однако Аль Джазири не только описывал античные изобретения, по сведениям современных историков науки и техники, он является изобретателем коленчатого вала и многих других открытий в области механики [28].
Что касается «цивилизации средневекового запада» (как обозначает европейский культурно-исторический тип французский медиевист, представитель школы «Анналов» Ж. Ле Гофф), то это был «бедно оснащенный мир, “технически отсталый”».
Средневековье знало даже определенный регресс в этой области по сравнению с греко-романским миром, и в период между V и XIV вв. изобретательство проявлялось слабо [15, с. 183].
Согласно Ж. Ле Гоффу, не существовало другой сферы средневековой жизни, нежели техническая, в которой с такой антипрогрессивной силой действовала бы другая черта ментальности: отвращение к «новшествам». Здесь еще в большей мере, чем в прочих сферах, нововведение представлялось чудовищным грехом. Оно подвергало опасности экономическое, социальное и духовное равновесие. Новшества, обращенные на пользу сеньора, наталкивались, как мы увидим ниже, на яростное или пассивное сопротивление масс.
В течение долгого времени на средневековом Западе не было написано ни одного трактата по технике; эти вещи казались недостойны пера или же раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать. Когда в начале XII в. немецкий монах Т. Пресвитер (1070–1125) писал трактат «О различных ремеслах», он стремился не столько обучить ремесленников и художников, сколько показать, что техническое умение есть божий дар. Другие так называемые труды по технике – всего лишь эру-дитские, часто псевдонаучные компиляции, не имеющие большого документального значения для истории естественных знаний [15, с. 187].
Новый культурно-исторический тип оказался не в состоянии развить достижения предшественников, однако средневековые мастера примерно с X в.2 начинают использовать водяные мельницы [15, с. 183]. В XI в. водяное колесо в Европе начинает применяться повсеместно [26, с. 31]. В XII в. данные механические устройства начали применяться в металлургии. Сначала в аль-Андалус, затем в христианской Испании, а потом и по всей остальной части света. Однако необходимо учитывать, что этот процесс был долгим и несинхронным. До XIII в. мельница в железоделательной промышленности являлась редкостью; обнаружение ее в 1104 г. в Каталонии нельзя считать бесспорным, хотя подъем кузнечного дела в этой провинции во второй половине XII в. и был, возможно, связан с распространением этих мельниц. Первое надежное упоминание о них датируется 1197 г. для одного монастыря в Швеции [15, с. 199].
Производство металлов находилось в далеко не лучшем виде, когда в большинстве случаев использовались рудиментарное оборудование и техника [29]. Плавильные печи с мехами, которые приводились в действие энергией воды, появились в конце XIII в. в Штирии, а затем, около 1340 г., в районе Льежа. Доменные печи конца Средневековья не могли тотчас же революционизировать металлургию. Решающие сдвиги появились, как известно, лишь в XVII в., а их распространение пришлось на следующее столетие.
В результате мы видим, что значимые технические достижения в «индустриальной» сфере касались ее отдельных и притом не основных отраслей, а их распространение датируется к тому же концом Средневековья [15, с. 203].
На исходе XIV в. появилась наиболее совершенная форма ведущего звена рычажных и зубчато-рычажных механизмов – система шатун-кривошип. После этого механизмы, которые Античность знала лишь в качестве «курьезных игрушек», в Европе приобрели утилитарное значение [15, с. 188]. Это привело впоследствии к изменению техногенной среды, изменению мировоззрения общества на труд, науку и инновации.
Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.), хронологические рамки которой совпали с периодом падения средневековой исламской цивилизации, знаменовала собой перемещения интеллектуального центра во Флоренцию, где обучался переводчик Ветрувия Дж. да Верона (1433–1515), оказавший огромное влияние на инженеров и архитекторов того времени. Его современник Ф. ди Джорджио (1439–1501) со всей очевидностью доказал, что рисунок машины является интеллектуальным самовыражением и средством профессионального самоутверждения техников и инженеров, которые до тех пор считались ремесленниками. Он ввел в оборот метод моделирования инженерных сооружений в процессе проектирования. Эти два представителя Высокого Возрождения являли собой замкнувшуюся цепь распространения технической инновации. Первый изложил опыт предшествующей цивилизации, проиллюстрировал его и аннотировал, второй развил его и передал своим последователям, в частности, своему ученику Леонардо да Винчи, процесс проектирования машин которого, по мнению исследователей, стал венцом средневековой технической мысли. Признавая единственным критерием истины – опыт, противопоставляя метод наблюдения и индукции отвлеченному умозрению, Леонардо да Винчи не только на словах, но и на деле наносит смертельный удар средневековой схоластике с ее пристрастием к абстрактным логическим формулам и дедукции («пусты и полны заблуждений те науки, которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в наглядном опыте») [17, с. 10–12].
С этого времени к средневековой Европе уже нельзя относиться как к отсталому культурно-историческому типу. Так как хаос системы начинал преодолеваться информацией, негэнтропийный принцип последней привел в последующем к первому этапу индустриализации.
Наиболее объемным отрицательным вкладом в энтропию средневекового общества можно считать труд Г. Бауэра (Агриколы) (1494—1555) [1]. Он провел систематическое исследование технологических процессов горного дела, которое показывает, как разительно изменилась техногенная среда европейского культурно-исторического типа по сравнению со временами Т. Пресвитера, так же собиравшего сведения о технике и технологии металлургической промышленности по всем германским землям. Ксилографии в книге Агриколы представляют собой не что иное, как свидетельство ранней промышленной революции, и в течение двух столетий они оставались важнейшим руководством по развитию металлургической промышленности.
Эволюционные процессы в развитии техники побуждают население осущест- влять инвестиции в образование. Так, развитие технико-технологической сферы в Европе тесно связано с развитием университетов. Рост суммы знаний и скорости распространения информации инициирует новую модель роста. Таким образом, все факторы модернизации приобретают необходимую взаимообусловленность.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Агрикола, Г. О горном деле и металлургии в двенадцати книгах / Г. Агрикола. – Москва : Недра, 1986. – 294 с.
-
2. Архимед. Сочинения / Архимед. – Москва : Физматгиз, 1962. – 640 с.
-
3. Большая Советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari . yandex.ru/dict/bse/article/00048/88900.htm. – Дата обращения: 10.03.2013.
-
4. Бородкин, Л. И. История и синергетика : Математическое моделирование социальной динамики / Л. И. Бородкин. – Москва : КомКнига, 2005. – 192 с.
-
5. Бородкин, Л. И. История и синергетика : Методология исследования / Л. И. Бородкин. – Москва : КомКнига, 2005. – 184 с.
-
6. Бородкин, Л. И. Синергетика и история : моделирование исторических процессов / Л. И. Бородкин // История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических процессов. – Москва, 2007. – С. 8–48.
-
7. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс] / М. Вебер. – Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/books/Veber/ index.html. – Дата обращения: 15.03.2013.
-
8. Гринин, Л. Е. Производственные революции как важнейшие рубежи истории / Л. Е. Гринин // История и современность. Сер. Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России. Человек и природа: противостояние и гармония. – Москва, 2007. – С. 212–243
-
9. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа : Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. – Санкт-Петербург : Н. Страхов, 1895. – 629 с.
-
10. Данилов, Ю. А. Что такое синергетика? [Электронный ресурс] / Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев // Нелинейные волны. Самоорганизация. – Москва : Наука, 1983. – С. 30–43. – Режим доступа: http:// spkurdyumov.narod.ru/kadomcev.htm. – Дата обращения: 06.03.2013.
-
11. Джеймс, П. Древние изобретения / П. Джеймс, Н. Торп ; пер. с англ.– Минск : Попурри, 1997. – 768 с.
-
12. Дюркгейм, Э . О разделении общественного труда [Электронный ресурс] / Э. Дюркгрейм. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/13348 . – Дата обращения: 15.03.2013.
-
13. Забаев, И. В. Вероисповедание и проблема модернизации (на примере М. Вебера и С. Булгакова) / И. В. Забаев // Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – Ивано-Франковск : Ист-Вью, 2002. – 352 с.
-
14. Зарринкуб, А. Х . Исламская цивилизация : Великие открытия и достижения человечества / А. Х. Зар-ринкуб. – Санкт-Петербург : ДИЛЯ, 2011. – 224 с.
-
15. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф ; под общ. ред. Ю. Л. Бессмертного ; пер. с фр. – Москва : Изд. группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376 c.
-
16. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии [Электронный ресурс] / К. Маркс. – Режим доступа: http://www.esperanto.mv.ru/ Marksismo/Kapital1/index.html. – Дата обращения: 17.03.2013.
-
17. Машины Леонардо да Винчи : тайны и изобретения в рукописях ученого / под. ред. Д. Лауренцы ; пер. с итал. – Москва : Ниола-Пресс, 2007. – 240 c.
-
18. Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari . yandex.ru/dict/phil_dict/article/filo/filo-480.htm. – Дата обращения: 10.03.2013.
-
19. Побережников, И. В. Модернизационная перспектива : теоретико-методологические и дисциплинарные подходы / И. В. Побережников // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. – Екатеринбург, 1999. – С. 16–25.
-
20. Побережников, И. В. Модернизация : определение понятия, параметры и критерии / И. В. Побережников // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX–XXI столетия. Четвертые всероссийские историко-педагогические чтения. – Екатеринбург, 2000. – С.105–121.
-
21. Побережников, И. В. Модернизация : теоретико-методологические подходы / И. В. Побережни-ков // Экономическая история. Обозрение. – Москва, 2002. – Вып. 8. – С. 146–168.
-
22. Проскурякова, Н. А. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной историографии / Н. А. Проскурякова // Вопросы истории. – 2005. – № 7. – С. 153–165.
-
23. Ученые России : энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. famous-scientists.ru/4502. – Дата обращения: 15.03.2013.
-
24. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас ; пер. с нем. М. М. Беляева и др. – Москва : Весь мир, 2003. – 416 с.
-
25. Энциклопедия социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/ dict/sociology/article/oc/soc-0669.htm. – Дата обращения: 10.03.2013.
-
26. Friedel, R. A Culture of Improvement / R. Friedel. – London : England, 2007. – 600 p.
-
27. Price, Derek J. de Solla. An Ancient Greek Computer. Scientific American, June 1959. – P. 60–67.
-
28. Salim, T. S. Al-Hassari. The Machines of al-Jazari and Taqi Al-Din [Электронный ресурс]. / T. S. Al-Hassari Salim. – Режим доступа: http://www.muslimheritage.com/topics/ default.cfm?articleID=466. – Дата обращения: 05.03.2012.
-
29. Theophili. Qui et Rugerus, presbyteri et monachi, libri III. de diversis artibus: seu, Diversarum artium schedula. Opera et studio R. Hendrie. – London : J. Murray, 1847. – 447 p.
-
30. Usher, A. History of Mechanical invention. Vol. I / А. Usher. – Нarvard : Harvard University Press, 1954. – 450 р.
-
31. Vitruvius Pollio, M. De Architectura [Электронный ресурс] / М. Vitruvius Pollio. – Режим доступа: http://www.thelatinlibrary.com/vitruvius . html. – Дата обращения: 17.03.13.
Поступила 12.03.13.
Об авторах :