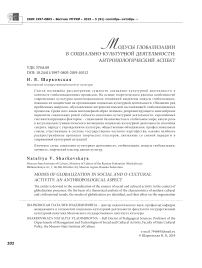Модусы глобализации в социально-культурной деятельности: антропологический аспект
Автор: Шарковская Наталия Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Социально-культурная деятельность
Статья в выпуске: 5 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению сущности социально-культурной деятельности в контексте глобализационных процессов. На основе теоретического анализа особенностей современных культурно-цивилизационных тенденций выделены модусы глобализации, показано их воздействие на организацию социально-культурной деятельности. Обозначен ряд проблемных вопросов, обусловленных антропологической составляющей глобализационных процессов. Среди них: каков многомерный образ человека, репрезентирующего многообразие вариантов социальных ролей субъекта социально-культурной деятельности, скреплённых систематизирующим фактором - социальной безопасностью в глобальном мире; какую роль в актуализации гуманистического потенциала социально-культурной деятельности способны сыграть, наряду с учреждениями культуры, общественные объединения, профессиональные союзы, участвующие в системе государственно-частного партнёрства; каковы наиболее распространённые признаки творческих кластеров, связанные со сменой парадигм в современной культурной ситуации?
Социально-культурная деятельность, глобализация, модусы глобализации, личность, творческий кластер, диалог культур
Короткий адрес: https://sciup.org/144161308
IDR: 144161308 | УДК: 379.8.09 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10512
Текст научной статьи Модусы глобализации в социально-культурной деятельности: антропологический аспект
Глобализация как многогранный процесс становления всеобщих социальных, экономических и информационных систем со свойственными им стратегиями управления, критериями эффективности производства позволяет выделить в них, наряду с реально существующими, и проекционные проблемы всепланетарного развития. Актуализация использования при содержательном их анализе термина «new normal» («новая реальность»), «который покрывает теперь глобальное пространство, а также несёт политическое, социальное и даже идеологическое содержание» [4, с. 8], обусловлена возможностью обозначить стабилизирующие структуры в их антропологическом измерении.
Одной из таких устойчивых структур в ракурсе гуманитарных наук выступает социально-культурная деятельность – открытая самоорганизующаяся система с присущими ей контурами прямой и обратной связи в функциональной подсистеме «специалист социокультурной сферы – обобщённый субъект (аудитория)» с целью гармонизации межличностного ситуативного взаимодействия представителей разных культур в пространстве-времени конкретного учреждения культуры.
В контексте исследования воздействия глобализации, прежде всего её модусов – преходящих свойств, средств и способов действия, на организационные процессы социально-культурной деятельности нами выделяются наиболее существенные из них:
-
• популяризация функционирования разноуровневых трансграничных культурных потоков с позиций антропоцентрической их составляющей . К числу наиболее распространённых потоков относятся: волонтёрские (социальное, экологическое, медиа и арт-волонтёрство), экскурсионно-туристские, информационно-коммуникационные, образовательные / самообразовательные, спортивно-оздоровительные и рекреационные потоки. Достижение стабилизации их структур обусловлено свободным пространственным выражением и взаимным позиционированием в традиционных и инновационных сферах реализации социально-культурной деятельности;
-
• актуализация реализации основных категорий глобальной этики, выражающих сущность этических принципов . Отражая глубинные процессы в культуре, в том числе нацеленные на синтез нравственных ценностей всех цивилизаций, они задают нормы социального поведения личности при
расширении возможностей проявления её гражданских прав, в том числе автономии морального выбора, выражения общественного мнения в ситуациях, связанных с прогнозированием сценариев активного досуга (специалист) и с его содержательным проведением (обобщённый субъект);
-
• улучшение качества жизнедеятельности граждан через развитие их способности восполнять и применять общекультурную компетентность в учреждениях культуры и дополнительного образования . Нормативная модель данного вида компетентности, отображая целостный состав интегративных общекультурных знаний, разнообразие созидательных умений и навыков, базирующихся на жизненном познавательном опыте, выступает основой гуманистически ориентированного планетарного мышления;
-
• активизация индивидуализированного отражения фактического отношения личности к тем объектам культуры и искусства, ради которых осуществляется предметная социально-культурная деятельность . Ценностно-смысловой комплекс её проявляется в реально осознаваемых мотивах-целях, выражающих сопричастность личности к значимости постижения смысла многообразия культур, формирования художественного образа того, к чему она стремится в свободное время, а также авторской рефлексии эмоциональных состояний;
-
• возникновение новых профессий в отраслевых учреждениях культуры и дополнительного образования, которые востребованы в цифровую эпоху . Среди них: куратор коллективного творчества, тренер творческих игропрактик, личный тьютор по эстетическому развитию, персональный бренд-менеджер, режиссёр мультимедиа, дизайнер дополнительной реальности, фор-сайтер, продюсер цифрового контента, ме-
- неджер онлайн-проектов, специалист по работе с социальными медиа [2; 6]. Характеризуясь междисциплинарностью и, соответственно, надпрофессиональными компетенциями, названные профессии меняют восприятие образа специалиста социкуль-турной сферы, делая его открытым инновациям и процессуальному творчеству в видоизменяющихся ситуациях социокультурного развития.
Выделенные на основе теоретического анализа особенностей современных культурно-цивилизационных тенденций, данные модусы глобализации отражают специфику не только общей модели государственной культурной политики, но и её приоритетных направлений, значимых для реализации просветительных, воспитательных и развивающих программ, обеспечивающих доступ личности к достижениям мировой и национальной культуры.
На основе контент-анализа текстов статей, посвящённых вопросам современной социально-культурной деятельности и опубликованных в 2015–2019 годах в таких научных журналах, как «Международный журнал исследований культуры», «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств», «Культура и образование», в качестве доминирующих показателей стимулирующих механизмов функционирования социально-культурной деятельности в контексте глобализационных процессов были выявлены:
-
• комплексность программного обеспечения реализации базовых методологических принципов : дополнительности, культу-росообразности, приоритетности общечеловеческих ценностей в содержании общекультурных проектов; показатель позволяет устанавливать межкультурные связи и учитывать индивидуальные различия в социальном поведении участников, адаптиро-
- вать их к мезо- и микрофакторам окружающей среды;
-
• перспективность и жизнеустойчи-вость интерактивных форм, методов и средств культурной деятельности ; показатель определяется на основе стандартных индикаторов общекультурного развития личности: а) информационной грамотности в виде составной части информационной культуры в целом; б) равного и свободного доступа к данной деятельности, активного участия в ней с целью творческого самовыражения как отдельных субъектов, так и социальных групп; в) роли СМИ (транснациональных, национальных, региональных, местных) в рекламировании воздействия базисных социальных и культурных событий, явлений на ценностное самоопределение личности, утверждение её собственной активной / пассивной жизненной позиции к конкретным сферам деятельности; г) публичности отраслевых учреждений культуры и системы дополнительного образования, возможности регулирования предложения и потребления оказываемых ими культурных услуг;
-
• интенсивность внедрения инновационных технологий в учреждения культуры, стимулирующих значимые изменения в их практике ; актуализируя эмоциональную окраску участия субъектов в проектах общекультурной направленности, развития специальных способностей и склонностей (музыкальных, сценических, художественных) для успешного осуществления их в той или иной области досуга, данный показатель требует учёта человеческого фактора, в частности – в аспекте регуляции образцов социального поведения, характера неформального общения.
Выделенные модусы глобализации, ведущие показатели механизмов активизации функционирования социально-куль- турной деятельности позволяют обозначить ряд проблемных вопросов, суть которых проецируется на её целостный организационный процесс:
-
1. Каков многомерный образ человека, репрезентирующего многообразие вариантов социальных ролей мобильного, относительно свободного, толерантного субъекта культурной деятельности, скреплённых систематизирующим фактором – социальной безопасностью в современном глобальном мире – мире всеобщей стандартизации потребления культурных благ и Интернета?
-
2. Влияет ли на инвариантное ядро структуры социально-культурной деятельности абсолютизация экономических механизмов – отличительного признака глобализационных процессов, вовлекающих во всемирный оборот те культурные продукты, в том числе самодеятельного художественного искусства, мультимедиа, которые могут стать тиражируемым предметом купли-продажи?
-
3. Какую роль в актуализировании гуманистического потенциала социально-культурной деятельности могут сыграть, наряду с профильными / непрофильными социально ориентированными учреждениями культуры, также общественные объединения: профессиональные союзы, благотворительные фонды, детские, молодёжные организации, ассоциации и иные виды общественных объединений, которые участвуют в системе государственно-частного партнёрства: конструктивном сотрудничестве, социальном консенсусе? [8, с. 136]
Ключевым в этом ряду проблемных вопросов остаётся вопрос: в чём состоит суть культурного смысла глобализации в контексте диверсификации рисков управления процессами формирования творческих кластеров – содружества независимых компаний и организаций, объединённых об- щей городской территорией, взаимоотношениями сотрудничества и конкуренции в пространственно локализованных сферах социально-культурной деятельности? С одной стороны, эти сферы, отличаясь подвижностью и изменчивостью, испытывают на себе влияние социальной аномии, что ведёт к депривации их относительной автономности. С другой стороны, общая рентабельность учреждений культуры, ориентированных на применение не только традиционных, но и инновационных технологий, в том числе зрелищно-информационных для разновозрастных аудиторий, оказывается реально существующей. Это подтверждается рядом исследований по теории и практике социально-культурной деятельности [см.: 1; 7; 10].
Кластеры, охватывая и реализуя разные стили и формы полноценного культурного самовыражения личности в свободное время, располагают их по магистральной оси, изъясняющей суть действия одного из принципов глобализации, а именно
– «от универсализма к партикуляризму» [11, с. 34]. Эффективность развития таких творческих кластеров, являющихся составной частью европейских сетей независимых креативных центров, как музей современного искусства «Garage», центр дизайна «Artplay», центры современного искусства «Винзавод» и «М’АРС», арт-центр на «Дизайн-заводе “Флакон”», центр творческих индустрий «Фабрика» (Москва); музеи современного искусства «ЭРАРТА» и «АРТ-Муза», арт-центр «Пушкинская, 10», лофт-проект «Этажи», креативное пространство «Ткачи», арт-пространство «Флигерь», эко-лофт «More Place» (Санкт-Петербург), – достигается при наличии общей стратегии создания и последующего развития новой культуротворческой среды организации социально-культурной деятельности.
Так, арт-центр «Пушкинская, 10», являясь членом международных организаций «Trans Europe Halles», «Res Artis», представляет современное искусство Петербурга на государственном уровне за рубежом, участвуя в международных фестивалях: «Петербург в Нью-Йорке», «Петербург в Варшаве»; «ЭРАРТА» является первым в стране музеем современного искусства, который указан в международном проекте «Gooqle Art Project».
В целом антропологическая составляющая наиболее распространённых признаков творческих кластеров, обусловленных сменой парадигм в современной социальной ситуации, выражена: а) в эффективности вербальных / невербальных контактов участников конкретных кластеров, базирующихся на взаимном согласовании и координации межличностных отношений, социальных установок, нацеленных на достижение результативности способов осуществления их совместной культурной деятельности; б) в представленности разных видов культурных продуктов и услуг, отличающихся новизной и оригинальным выполнением, основанных на интеллектуальной активности, творческом воображении, художественной интуиции; в) в технологических нововведениях, ориентированных на достижение положительного имиджа конкретного кластера, базирующихся на правилах конгруэнтности, комплексности и системности с целью обеспечения его конкурентоспособности.
Корреляционное моделирование процесса формирования кластерных инициатив и поддержание многопрофильных проектов международного и глокального уровней, например, фестивальных проектов (Весеннего фестиваля журнала «Seasons of Life» «Дизайн Субботник», фестивалей страноведения в формате «дней» разных стран –
Франции, Норвегии, Японии, Сингапура («Дизайн-завод “Флакон”» (Москва); международных выставочных проектов (SENCOR в жанре «immersive diqital art», «Face 2 Face», посвящённых исследованию влияния технологий на искусство и человеческое восприятие (центр современного искусства «М’АРС» (Москва)), «Экология искусства» – коллективного выставочного проекта в рамках III Международного фестиваля искусств «Живой Финский залив» (музей современного искусства «АРТМуза» (Санкт-Петербург)); арт-проектов международного культурного фонда BREUS Foundation («Премия Кандинского», издательские программы BREUS publishinq); разноплановых выставочных проектов известных отечественных и зарубежных художников, скульпторов, фотографов современности (Дмитрия Стрижова – русско-американского художника, поэта, продюсера; Пола Никлена – фотографа журнала «National Geoqraphic»; Бена Хайне – бельгийского художника, создателя нового вида искусства под названием «Карандаш против камеры»), – значимо для развития рекреационной инфраструктуры городского пространства как одной из перспективных сфер социально-культурной деятельности.
Реализуя потребность в совершенно новых форматах общественных пространств, связанных с экологизацией производств культурных продуктов, и, соответственно, в «новых программах менеджмента» [5, с. 257], творческие кластеры вбирают в себя, как правило, авторские объединения, в том числе художественные мастерские, центры информального обучения, коворкинги, несетевые кафе и т.д. Среди методов формирования системы их управления, обеспечивающих взаимосвязь пространственных функций социально-культурной деятельности, в частности функции коорди- нирования проведения арт-программ, фотосессий, перформансов, квартирников, дизайнерских ярмарок, воркшопов, музыкальных концертов, следует указать метод си-нектики, экспертного оценивания, метод компьютерной имитации типичных социокультурных ситуаций, методы социального прогнозирования. Наблюдаемое в социальной практике постоянное смещение границ творческих кластеров объясняется развитием как законодательных изменений в области культурной политики, так и совершенствованием информационно-коммуникационных, сетевых технологий.
Именно данные технологии обуславливают функционирование тех модусов глобализации, которые проецируются на проблемные вопросы, связанные с модернизацией отраслевых учреждений культуры, в частности с обновлением содержания действующих в них профессий, созданием перспективных возможностей для овладения специалистами разными типами компетенций. Используя возможности электронной почты, web-блогов, чатов, форумов, гостевых книг, они предоставляют нелимитиро-ванные возможности для вовлечения субъектов в социально-культурную деятельность, что требует, в свою очередь, углубления спектра знаний о структуре мирового рынка информационных услуг, правилах, предъявляемых к информационным ресурсам, и, как следствие этого, изменения сочетания глобального и локального.
Степень интегрирования информационно-коммуникационных и сетевых технологий в педагогический процесс этих институтов выражена следующими ступенями: начальная – эпизодическое использование технологий, в том числе мультимедиа-презентаций в отдельных общекультурных проектах и программах; средняя – несистемное применение технологий и интерактивных средств, в том числе технологий дистанционного обучения в ходе проведения интернет-конкурсов, конференций, виртуальных экскурсий, веб-семинаров и т.д.; высокая – регулярное использование технологий как значимого средства доступа к информационным ресурсам: го- сударственным и негосударственным, на основе которых моделируется структура тех или иных разновидностей информационных технологий.
Как раз синтез вышеназванных технологий и форм межкультурного взаимодействия (государственно-частное партнёрство, социальный нетворкинг) стимулирует развитие новых сфер реализации социально-культурной деятельности: инклюзивное самодеятельное искусство, международные путешествия и туризм, инклюзивный детский отдых, корпоративное добровольчество, и, соответственно, выявление в них антропологических констант.
Актуализация коммуникативной многозначности межкультурного взаимодействия в виде диалога культур объясняется таким существенным фактором, как стабильное возрастание количества прямых контактов между учреждениями культуры и социальными группами, индивидами, имеющими разные мировоззренческие установки, способы культурного самовыражения и проявления индивидуальности с учётом своих любительских интересов, духовных потребностей и ценностно-нормативных особенностей. Именно диалог культур, представляющий собой полисмысловой феномен, реализующий стремление субъектов в общении с представителями учреждений культуры, совместном поиске реально взвешенных решений по осуществлению партнёрства в них, возможен благодаря развитию информационных коммуникаций.
В условиях глобализации такие разновидности диалога, как мотивационный, смыслотворческий, рефлексивный, выходят за пределы одного культурного пространства, объединяя участников целесообразностью решения проблемных вопросов, которые перерастают масштабы конкретного учреждения культуры и становятся значимыми для всей культурной сферы в региональном или в международном контексте. При этом «диалогичность в пространстве и времени культурного макрокосма трактуется как одна из разновидностей “встречного движения” различных хронотопов культуры» [9, с. 55]. Утверждение этого феномена в виде формы интерсубъективного общения продуктивно осуществляется через международные общественные организации в сфере культуры: ЮНЕСКО; отраслевые международные организации, в том числе Всемирную ассоциацию выставочной индустрии (UFI) и другие; международные культурные форумы.
Следует отметить, что именно антропологический концепт межкультурного взаимодействия, сориентированный на использование информационно-коммуникационных технологий в виде средства доступа к мировым информационным ресурсам [3, с. 65], стимулирует разрешение противоречия между потребностями личности в реализации своей творческой индивидуальности на локальном уровне и возможным нивелированием её в условиях глобализации. С одной стороны, информационно-коммуникационные технологии предоставляют ранее неизвестные объективные возможности для раскрытия креативной неординарности личности, позволяют учитывать её своеобразие в разных областях межкультурного взаимодействия, в том числе художественной, в виде создания культурных продуктов, нацеленных не на широкий круг потребителей, а на отдельных ценителей конкретного вида декоративно-прикладного творчества. С другой стороны, стирание временных и пространственных рамок, объективная потребность во внедрении стандартов единой системы профессиональной подготовки специалистов креативных профессий в сфере культуры и дополнительного образования создают условия для реализации приоритетов антропологической составляющей в структуре информационного оснащения данных сфер.
Указанное противоречие является движущей силой формирования самых разных модификаций социокультурных связей таких локальных направлений социально-культурной деятельности, как народное художественное искусство, индустрии досуга и разумных развлечений и пр. Нацеленные на создание новых типов взаимоотношений современных учреждений культуры и посетителей в контексте достижения свободы выбора и совершенства, они создают своё специфическое информационное и коммуникационное пространство, отличающееся от коммуникативных полей других социокультурных институтов.
Рассмотренные модусы глобализации, доминантные показатели стимулирующих механизмов функционирования социально-культурной деятельности не исчерпывают всего спектра её поступательного организационного и технологического развития, сопряжённого преимущественно с динамикой активной жизненной позиции личности к тем или иным аспектам современной действительности. Регламентируя стиль социального поведения и поступков в статусно-ролевой подсистеме «специалист социокультурной сферы – обобщённый субъект (посетитель, участник, зритель, читатель)» непосредственно в конкретной ситуации отраслевых учреждений культуры и дополнительного образования, они относятся, по нашему мнению, к числу наиболее значимым современным общекультурным явлениям, выражающим суть происходящих процессов, характеризующихся понятием «глобальность».
Список литературы Модусы глобализации в социально-культурной деятельности: антропологический аспект
- Акунина Ю. А., Ванина О. В. Проектирование креативных общественных пространств: социально культурный подход // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 3 (89). С. 167-174.
- Атлас новых профессий / [П. Лукша и др.]; под ред. П. Лукши; Агентство стратегических инициатив, Московская школа управления Сколково. Москва: Олимп-Бизнес, 2015. 216 с.: цв. ил., портр.
- Коротков А. В., Кузьмин А. М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие / Московский государственный институт международных отношений (ун-т) МИД России, Кафедра глобальных информационных процессов и ресурсов. Москва: МГИМО-Университет, 2012. 90, [1] с.
- Медведев Д. А. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы // Вопросы экономики. 2015. № 10. С. 5-29.
- Портер М. Конкуренция / [пер. с англ. О. Л. Пелявского и др.]. Москва [и др.]: Вильямс, 2005. 602 с.