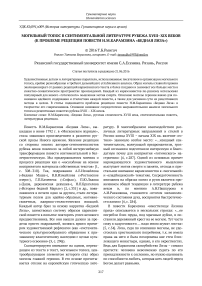Могильный топос в сентиментальной литературе рубежа XVIII-XIX веков (к проблеме рецепции повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза")
Бесплатный доступ
Художественные детали и литературные параллели, использованные писателями в организации могильного топоса, крайне разнообразны и требуют дальнейшего углубленного анализа. Образ могилы главной героини эволюционирует от ранних рецепций карамзинского текста к более поздним и занимает все больше места в сюжетно-семантическом пространстве произведений. Каждый из карамзинистов по-разному использовал популярный для нового «готического» мышления мотив смерти. Описание могилы героини важно для понимания идейного содержания и стилистики каждой повести, а также для уяснения сути их рецептивного метода в целом. В статье поднимается проблема рецепции повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» в творчестве его современников. Основное внимание сосредоточено насравнительном анализе могильного топоса в рецептивных повестях рубежа XVIII - XIX веков.
Н.м.карамзин, "бедная лиза", русская словесность xviii века, сентиментальная повесть, литературная рецепция, аliterary reception
Короткий адрес: https://sciup.org/148102437
IDR: 148102437 | УДК: 82(091):009
Текст научной статьи Могильный топос в сентиментальной литературе рубежа XVIII-XIX веков (к проблеме рецепции повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза")
Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза», вышедшая в июне 1792 г. в «Московском журнале», стала знаковым произведением в развитии русской прозы Нового времени. Явление рецепции со стороны многих авторов-сентименталистов рубежа веков повлекло за собой интереснейшую трансформацию повести сентиментальной в беллетристическую. Мы придерживаемся мнения о процессе рецепции как о « воссоздании на основе воспринятого материала собственных текстов» [1, c. 308–310]. Так, подражания А.Е.Измайлова («Бедная Маша»), В.В.Измайлова («Ростовское озеро»), Г.П.Каменева («Софья»), П.Ю.Львова («Даша, деревенская девушка»), Н.П.Брусилова («История бедной Марьи») [2, c.331] и др., появлявшиеся в печати одно за другим, стали литературным полем для идейно-образных, мотивно-сюжетных, жанрово-стилистических новаций. Каждый автор брал за основу нарратив «Бедной Лизы», заимствовал систему образов карамзинской повести в попытке повторить успех великого предшественника. Все они вышли далеко за пределы просто подражаний, являясь ярким примером художественной рефлексии (как «систематического культуросообразного обращения к признанному классическому наследию с целью культурного освоения» [3, c. 296]).
Сконцентрируем внимание на одном, переходящем из текста в текст, могильном топосе, центрообразующим элементом которого стал образ могилы главной героини. В его основе прочитывается отклик на европейскую готическую лите- ратуру. В многообразном взаимодействии различных литературных направлений и стилей в России конца XVIII – начала XIX вв. явление «готики» занимало особое место: «…изящный сентиментализм, волнующий предромантизм, грозный оссианизм подготовили интересную и благодатную почву для восприятия «готического» настроения» [4, c.287]. Одной из основных примет нарождающегося художественного мышления выступает мотив смерти и памяти, отсюда и пристальное внимание карамзинистов к «могильной» и «кладбищенской» тематике. Сосредоточенность внимания на образах могил и руин является проявлением общей тенденции в литературе рубежа веков и, по мнению А.Н.Пашкурова и А.И.Разживина, становится «итогом меланхолического состояния духа, восприятия быстротечности жизни» [4, c. 284].
В повести Карамзина «вместилище Лизина праха» описывается в нескольких строках: «…ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости … надо мною шумят листья» [5, c.54]. Лиза, судя по описанию могилы, не удостоилась христианского погребения, т.к. не имела права на него и была похоронена вне стен близлежащего монастыря, однако, в его окрестностях. Ведь для Карамзина самоубийство Лизы – символ протеста: человека невозможно судить по его принадлежности к сословию, но нужно оценивать по способности любить, которая всех людей перед Богом делает равными.
Деревянный крест также появляется в описании могилы Даши из повести П.Ю.Львова «Даша, деревенская девушка» (1803). На этом кресте, уже не безымянном, читатель найдет сравнение с ангелом: «Здесь спит чувствительная Даша. Прохожий! Чти прах ее. Податель жизни вечной приобщил нежную Душу ее к лику святых ангелов своих» [6, c. 154–162]. Подробно описывается «жертва любви и чувствительности, лежащая во гробе», портрет ее схож одновременно и со сказочным изображением спящей красавицы, и с описанием преставившегося святого в житии («…на лице не видно было безобразных ужасов смерти», руки ее сравниваются со снегом, они сложены на «оледеневшей груди» – «вообще казалось, что будто лежало во гробе изображение уснувшей красоты»). Это связано и с сюжетом повести Каменева (девушка умерла невинной), и с изменением стилистики произведения: автор вводит языковую дифференциацию в описание крестьянского мира и мира дворянского сословия, к которому принадлежит рассказчик. Крестьянский мир воссоздается в тексте с использованием фольклорных элементов и изобразительно-выразительных средств.
Анюта из повести В.В.Измайлова «Ростовское озеро», опубликованной спустя три года после карамзинского сочинения, произносит: «…чувствовать умеет и всякая крестьянка», что является прямой отсылкой к карамзинскому «и крестьянки любить умеют!». Социальная проблематика у Измайлова отходит на второй план, уступая общечеловеческому, нравственному. В этой повести мотив неравной любви имеет иное завершение: молодой дворянин женится на Анюте, ставя чувство – а не разум – во главу угла. Отсюда и изменения в описании могилы главной героини Анюты: памятник ей сделан из белого мрамора (ср. с деревянным крестом на могиле Лизы). «Черные литеры, вырезанные на белом мраморе» (антитеза с эстетической целью) гласят: «Сия несравненная женщина была матерью, супругою, другом, дочерью равно нежными и, к вечному терзанию моего сердца, была столь же нежною любовницею» [7, c. 69–85]. Могила принадлежит уже не самоубийце, место погребения не безымянно, оно призвано напоминать о чувствительной душе упокоенной здесь (главной составляющей сентиментализма); эту же функцию выпол-няяет и образ «тихо горящей лампады». Наличие же надписи на французском языке, взятой из «Новой Элоизы» Ж.-Ж.Руссо, говорит о стилистической направленности рецепции Измайлова. Язык его повести усложнен, по сравнению с ка- рамзинским, он изобилует разнообразными сравнениями, параллелями с древнегреческой пасторалью, с сочинениями Руссо, с шедеврами искусства эпохи Просвещения. Такое преобразование языка направлено на «катализирование» внешней стороны сентиментальной повести: «слезливость героев, трагичность сюжета, общечеловеческая направленность конфликта, пышность речевых оборотов» впоследствии станут основой женской литературы [8, c.148].
В отличие от «Бедной Лизы» и последующих сентиментальных повестей,где могила героини описывается в эпилоге, описание могилы девушки Г.П.Каменев в рецептивной повести «Софья», написанной в 1796 г., помещает в экспозиции, создавая с его помощью элемент интриги, свойственный беллетристике. «Розовые кусты, наклонившие пушистые свои головки, скрывают от глаз древнюю гробницу. Разломанная мощною рукою времени, она представляет вид всеобщего разрушения. Беспрестанная сырость стерла с нее надпись» [9, c.176]. Могила, как и у Карамзина, безымянная, но изначально не была таковой. Ее описание интересно, в первую очередь, использованием символики растений, широко распространенной и популярной в культуре XVIII–XIX вв. Рассказчик догадывается о том, что здесь погребен хороший человек, именно по розмарину, растущему возле могилы: «Розы, розмарин, не могут украшать костей изверга...» [9] Существует мнение о том, что оригинальная проза Каменева представляет собой сплетение готической поэтики и масонской идеологии [4, c.297]. Так, описание «ветхой хижины» Софьи, развалившегося дома («…унылый горный ветер свистит сквозь рас-щелявшуюся избу. Он завывает – и робкий путешественник цепенеет от ужаса» [9, c.176]) – явное следование готической поэтике руин, но одновременно и «переосмысление масонской идеи Дома, разрушение которого – величайшая трагедия» [4, c.229]. Символ цветущей розы, помимо связи с сентименталистской поэтикой (чистота души человека), имеет и масонский подтекст: «…похоронный символ, последний эпизод в великом хранилище человечества, символ, который сам препровождает в вечность» [4]. Совершая экскурс в историю эволюции готики, исследователи А.Н.Пашкуров и А.И.Разживин говорят о «розе» (большом круглом окне над входом в собор) в готических постройках, главном витраже здания, который также символизировал бесконечность. Отец девушки «похоронил оба тела подле розового куста, посаженного Софьею. Их не хотели от- певать. Священник сказал, что утопленников подле церкви хоронить нельзя» [9, c. 185]. Поэтому рассказчик обращает внимание читателя на то, что захоронены Софья и Иван (крестьянин, с которым героиня должна была обвенчаться) на «площадке, усыпанной цветами и плодовитыми деревьями», некогда бывшей садом за хижиной Софьи и ее отца. Заметим, это первая сентиментальная повесть, где возлюбленные похоронены вместе, отсылает нас к древнерусской традиции -житийному сюжету о святых Петре и Февронии Муромских.
Большая часть произведения «Несчастная Лиза» неизвестного автора (1810) посвящена описанию сооруженного «несчастным любовником» памятника на могиле героини, который «ежедневно привлекал к себе проезжающих и любопытных». В этом художественном тексте рассматриваемый нами образ получает полноценное описание. Именно во второй части повести можно наблюдать обилие сентиментальных деталей. Особенно интересна картина, которую пишет сам Артист и оставляет на могиле Лизы. Она насыщена символами: «На одной стороне изображен гроб со стоящею над ним урною, перед которою рыдает богиня меланхолии. Под урною на гробе видны вензелевые имена Артиста и Лизы с надписью под ними: «”Утехою слеза”. Вверх картины в тре- угольнике изображен крест, по сторонам которого погашенная свеча и пылающее сердце. Под ним надпись: “Счастлива под крестом Лизетта тем судьбою, / что в год осьмнадцатый преставилась к покою”» [11, c.302]. Приведены также многочисленные надписи на обратной стороне полотна. Вместе с тем изобилие деталей и надписей на картине, которые должны передавать все горе Артиста, приводят к комичному эффекту. Обращается автор и к приему неожиданного оксюморона: говоря о безутешном Артисте, он заключает – «нежное помешательство ума»; описывая собственные впечатления от памятника Лизе, называет его «привлекательной могилой». Многочисленные отрывки из текстов Карамзина, Дмитриева, из собственных сочинений умножают эмоциональные восклицания автора. Рассказы о необыкновенной популярности памятника Лизе, о поругании могилы любопытными посетителями и злопамятным мужем могли быть направлены на усиление трагизма в описании судьбы девушки, но могли служить и иронической насмешкой над канонами сентиментальной повести.
Художественные детали и литературные параллели, использованные писателями в организации могильного топоса, крайне разнообразны и требуют дальнейшего углубленного анализа. Образ могилы главной героини эволюционирует от ранних рецепций карамзинского текста к более поздним и занимает все больше места в сюжетносемантическом пространстве произведений. Каждый из карамзинистов по-разному использовал популярный для нового «готического» мышления мотив смерти. Описание могилы героини важно для понимания идейного содержания и стилистики каждой повести, а также для уяснения сути их рецептивного метода в целом. Изображение презренной и забытой могилы героини, совершившей роковую ошибку из-за того, что она предпочла разум сердцу, формирует идейную рецепцию в повести Н.П.Брусилова. Стилистическая рецепция В.В.Измайлова завершается описанием надгробного камня из мрамора и передачей высказываний Руссо, вырезанных на нем. В своем переложении «Бедной Лизы» Г.П.Каменев кардинальным образом меняет ставший уже традиционным сюжет: возлюбленных хоронят вместе. Готическая традиция, развивающаяся в русской классической литературе, была использована авторами рецептивных произведений с целью привлечения более широкого круга читателей.
-
1. Левакин Н.Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) // Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В.Г.Белинского. Пенза, 2012. №27. С. 308–310.
-
2. Повесть «История бедной Марьи» ошибочно приписывалась Н.П.Милонову (не путать с М.В.Милоновым). См. об этом: Зорин, А.Л. Брусилов Николай Петрович // Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь: в 5 томах. М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1989. Т. I. С. 331.
-
3. Летина, Н.Н. Теоретические основания рецепции в провинциальном искусстве // Регионология. 2008. №3. С. 296.
-
4. Пашкуров, А.Н., Разживин, А.И. История русской литературы XVIII века: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 частях. Елабуга, ЕГПУ, 2011. Ч. II. С. 287.
-
5. Карамзин, Н.М. Бедная Лиза // Н.М.Карамзин. Избранные произведения. М., Изд-во « Детск. Лит-ра», 1966. С. 54.
-
6. Львов, П.Ю. Даша, деревенская девушка // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 154–162.
-
7. Измайлов, В.В. Ростовское озеро // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 69–85.
-
8. Орлов, П.А. Русский сентиментализм. М., 1977. С. 148.
-
9. Каменев, Г.П. Софья // Русская сентиментальная повесть / под ред. П.А.Орлова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 176.
-
10. Брусилов, Н.П. История бедной Марьи // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 228–231.
-
11. Несчастная Лиза // Русская сентиментальная повесть / под ред. П.А.Орлова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979 С. 302.
SEPULCHRAL TOP WASPS IN SENTIMENTAL LITERATURE OF A TURNOF THE 18-19TH CENTURIES (TO A PROBLEM OF RECEPTION OF THE STORY OF N.M.KARAMZIN "POOR LISA")
Список литературы Могильный топос в сентиментальной литературе рубежа XVIII-XIX веков (к проблеме рецепции повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза")
- Левакин Н.Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина)//Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В.Г.Белинского. Пенза, 2012. №27. С. 308-310.
- Повесть «История бедной Марьи» ошибочно приписывалась Н.П.Милонову (не путать с М.В.Милоновым).
- Зорин, А.Л. Брусилов Николай Петрович//Русские писатели. 1800-1917: биографический словарь: в 5 томах. М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1989. Т. I. С. 331.
- Летина, Н.Н. Теоретические основания рецепции в провинциальном искусстве//Регионология. 2008. №3. С. 296.
- Пашкуров, А.Н., Разживин, А.И. История русской литературы XVIII века: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 частях. Елабуга, ЕГПУ, 2011. Ч. II. С. 287.
- Карамзин, Н.М. Бедная Лиза//Н.М.Карамзин. Избранные произведения. М., Изд-во «Детск. Лит-ра», 1966. С. 54.
- Львов, П.Ю. Даша, деревенская девушка//Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 154-162.
- Измайлов, В.В. Ростовское озеро//Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 69-85.
- Орлов, П.А. Русский сентиментализм. М., 1977. С. 148.
- Каменев, Г.П. Софья//Русская сентиментальная повесть/под ред. П.А.Орлова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 176.
- Брусилов, Н.П. История бедной Марьи//Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., Современник, 1990. С. 228-231.
- Несчастная Лиза//Русская сентиментальная повесть/под ред. П.А.Орлова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979 С. 302.