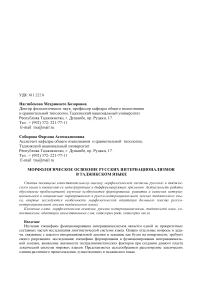Морфологическое освоение русских интернационализмов в таджикском языке
Автор: Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна, Собирова Фарзона Асомиддиновна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Лингводидактика
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному анализу морфологической системы русского и таджикского языка и выявлению ее интегрирующих и дифференцирующих признаков. Актуальность работы обусловлена проблематикой изучения особенностей формирования, развития и освоения интернационального и национально маркированного в русско-интернациональной лексике таджикского языка, впервые исследуются особенности морфологической адаптации большого пласта русско-интернациональной лексики таджикского языка.
Морфологическое освоение, русские интернационализмы, таджикский язык, сопоставление, адаптация заимствованных слов, категория рода, категория числа
Короткий адрес: https://sciup.org/147227643
IDR: 147227643 | УДК: 811.222.8
Текст научной статьи Морфологическое освоение русских интернационализмов в таджикском языке
Изучение специфики функционирования интернационализмов является одной из приоритетных составных частей исследования лингвистической системы языка. Однако отдельные вопросы и задачи, связанные с пластом интернациональной лексики и лежащие как будто на поверхности, требуют своего разрешения: исследование специфики формирования и функционирования интернациональной лексики, выявление значимости экстралингвистических факторов при создании данного пласта лексической системы мировых языков. Представляется целесообразным рассмотрение лексических единиц различного происхождения, существующих в таджикском языке.
Основная часть
Морфологическая система таджикского языка пополняется как посредством внутренних ресурсов, так и за счет заимствования отдельных морфологических элементов из русского языка. Морфологическое освоение русизмов рассматривается некоторыми исследователями как «появление у заимствованного слова производных на почве данного языка и подчинение его словообразовательным законам усвоившего языка» [Сорокин, 2003, с. 56] или «соотнесение иноязычного слова определенным грамматическим классам и категориям» [Крысин, 1991. С 75].
Если фонетическая адаптация заимствованных слов определяется в соответствии с артикуляционной системой и многими другими аспектами, то морфологическое освоение не может зависеть от субъективных факторов. Данное обстоятельство имеет место в силу того, что морфология развивается замедленными темпами, стихийным и незаметным для носителей языка образом, как правило, за счет собственных ресурсов и при соблюдении своих внутренних законов.
Морфологическая система таджикского языка заимствует русско-интернациональную лексику, наделяя ее соответствующими грамматическими категориями и подчиняя своим законам. Морфологическая адаптация интернационализмов в таджикском языке зависит непосредственно от грамматических особенностей контактирующих языков, соответствий и расхождений морфологической системы русского и таджикского языков.
При сопоставлении морфологических систем русского и таджикского языков обнаруживаем в них довольно развитые и разветвленные структуры, характеризующиеся как большими сходствами, так и значительными расхождениями, которые обусловлены их принадлежностью к различным типологическим типам.
Русский язык относится к стройно развитым флективным языкам, тогда как таджикский язык описывается как агглютинативный язык.
Отличительными критериями этих двух типов языков считаются такие морфологические характеристики, как система словоизменения и словообразования, а также наличие или отсутствие подсистем для разных категорий. В частности, для русского как флективного языка для системы словообразования и словоизменения свойственна фузия или присоединение аффиксов, сопровождаемая не фонетически обусловленными трансформациями основ и аффиксов. Одновременно русский язык отличает наличие нескольких подсистем для различных категорий, например, типы спряжения глаголов или особенное склонение прилагательных. В то время как таджикский язык как агглютинативный характеризуется прозрачной системой словообразования и словоизменения, заключающейся в присоединении аффиксов к основе без особых изменений аффикса и основы. Более того, морфологическая система таджикского языка проста, поскольку характеризуется одним комплектом флексий для склонения всех имен и одним набором окончаний для спряжения глаголов.
Морфологический анализ русских интернационализмов в таджикском языке позволил выявить различие в структуре слов, проявляющееся в том, что абсолютное большинство русских слов состоит из двух морфем: корневой морфемы и оформляющей это слово морфемы. Закономерным является факт отсутствия у корневой морфемы слова значения, за исключением единиц, имеющих нулевую флексию. Основа слова, как часть слова без окончания, считается неоформленным словом и не может использоваться в предложении. В таджикском языке, в противовес русскому, корень слова эксплицирует конкретное понятие и может функционировать как самостоятельное слово. Более того, знаменательные слова не имеют окончаний, они состоят либо из корня, либо из производной основы, содержащей словообразовательные суффиксы. В таджикском языке основа слова представляет собой полноценную и оформленную лексему, которая может функционировать в предложении.
Как было отмечено, таджикская морфологическая система в плане типологии относится к агглютинативным языкам, которым характерна прозрачность и простота в структуре. Данный фактор имеет большую значимость в процессе заимствования, поскольку любое заимствованное слово является такой же используемой единицей, как и другие элементы лексики. Если для флективных языков свойственно то, что заимствованные слова сталкиваются с проблемой вступления в новые для них разряды склонений и спряжений, то в таджикском языке подобные проблемы не имеют места, поскольку заимствованные единицы легко становятся компонентами системы словоизменения и словообразования.
Заимствованные таджикским языком русские интернационализмы не ограничиваются только лексическими единицами, они также содержат и элементы словообразования, но согласно правилам морфологической системы таджикского языка, все прототипы, имеющие в языке оригинала сложную или составную форму, принимаются как простые непроизводные слова. Большое число слов проникло в таджикский язык в «комплекте», сохраняющем деривационные формы исходного слова, как, на- пример, роман - романтизм - романтик, синдикат - синдикализм - синдикалист, террор - терроризм - террорист, академия - академизм - академик. Из приведенных примеров видно, что заимствование словообразовательных элементов довольно частое явление и словообразовательные аффиксы русского языка употребляются в таджикском в совокупности с проникающими в таджикский язык лексическими единицами. Однако нами не было выявлено примеров, в которых бы словообразовательные средства русского языка, распространенные в русских интернационализмах были в полной мере адаптированы и стали продуктивными элементами словообразования. Они употребительны лишь в составе тех лексических единиц, с которыми были заимствованы.
Следовательно, попавшие в таджикский язык словообразовательные средства воспринимаются его носителями как иноязычные. Более того, зачастую подобные элементы не обретают статуса морфемы, и с точки зрения носителей таджикского языка подобные заимствованные слова считаются одноморфемными.
Имена существительные в контактируемых языках проявляют полное совпадение в общем значении данной части речи. Указывая на предмет в широком смысле слова, то есть обозначая не только предметы, но и признаки, состояния, действия, мыслимые как предмет, существительные в исследуемых языках отличаются многообразием определенных значений и являются наиболее многочисленным лексико-грамматическим разрядом слов.
Основные различия между русским и таджикским существительным лежат в области собственно морфологии, то есть в способах словообразования и словоизменения, поскольку здесь наблюдается расхождения как в составе грамматических категорий, так и в способах словоизменения.
Основное значение имен существительных как части речи в русском и таджикском языках - предметность, которая реализуется в морфологических категориях существительного и выражается формальными признаками этих категорий.
В русском языке имя существительное характеризуется морфологическими категориями рода, числа и падежа, а также одушевленности и неодушевленности.
Значение предметности имен существительных в таджикском языке грамматически выражается в категории числа, лица/нелица (перекрещивающейся с категорией одушевленности / неодушевленности) и в категориях единичности и неопределенности. Существительное в таджикском языке, в отличие от русского, не имеет категории грамматического рода и не изменяется по падежам. Соответственно с этим связи существительных с другими словами в предложении выражаются в основном синтаксическими средствами. Этими средствами являются предлоги и послелоги, изафетная конструкция и порядок слов. «Имена существительные и прилагательные в таджикском языке по формальным признакам, то есть по наличию у них особых окончаний, не дифференцируются» [Рустамов, 1972, с. 56]. В русском же языке каждое существительное, как правило, состоит из двух частей - основы и соответствующего окончания.
Как правило, имена существительные заимствуются языком в своей начальной форме, то есть в именительном падеже единственного числа. Однако существует немногочисленная группа существительных, вошедших в таджикский язык в иных формах, чаще всего в форме родительного падежа, например: санатория, лаборатория.
Основная особенность имен существительных таджикского языка, отличающая эту часть речи от аналогичной в русском языке, заключается в отсутствии грамматической категории рода, поскольку данная категория в русском языке является наиболее характерным морфологическим признаком имен существительных. В этой связи, в таджикском языке нет соответствующих грамматических форм передачи данной категории и поэтому флексии женского рода -а, -я, среднего рода -о, -е индефферент-ны для таджикского языка. Более того, указанные морфемы в таджикском языке не считаются частью лексической единицы, имеющей самостоятельное значение, хотя в разговорном таджикском языке, подвергаясь фонетическому освоению, они могут находиться в ударной позиции, поскольку, согласно нормам произношения в таджикском языке, место ударения определяется последним слогом: лампа, бомба, тонна, почта, бочка.
Следовательно, понятие грамматического рода в таджикском языке, предполагающее дифференциацию слов на группы со специальными морфологическими показателями, вообще отсутствует. Однако «в школьных таджикских учебниках, испытавших влияние грамматических схем, которые были созданы применительно к языкам, имеющим категорию грамматического рода (арабский и русский), в течение долгого времени проводилась мысль о наличии категории рода (Чинсият) и в таджикском языке» [Рустамов, 1972, с. 41].
Как утверждает Ш.Рустамов, «известную роль здесь играли многочисленные заимствования арабских существительных женского рода, сохраняющих в таджикском формальные приметы... Арабские заимствования такого типа оказали известное влияние на словообразование женских имен собственных... посредством суффикса -а (муаллим - муаллима). К этому прибавились заимствования из русского частично сохраняющие не только формальные приметы, но и значения (ср. пионер-пионерка, при собственно таджикском пути словообразования по моделям композит и словосочетаний с зан, духтар)» [Рустамов, 1972, с. 42].
Некоторую аналогию выделения рода можно наблюдать только на семантическом уровне, при определении пола для одушевленных существительных. В таджикском языке живые существа лексически обозначены наименованиями лиц женского и мужского пола (мард - мужчина, зан - женщина, цавон - юноша, духтар - девушка). В отдельных случаях биологический род эксплицируется лексически, посредством номинирующих его слов, «зан» - женщина: коргар - рабочий, работник, коргар-зан - работница. Однако по аналогии с русским языком, где абсолютное большинство наименований профессий мужского рода, профессию лиц женского пола, как правило, указывают в форме мужского рода: тарцумон Назарова (переводчик Назарова), профессор Набиева, филолог Мирзоева, журналист Хусейнова, духтур Самадова и т.п. Данный факт можно проиллюстрировать следующими отрывками из периодической печати:
- Озмоишгоуи мо «чашми корхона» аст, мегуяд Мунира Олимчонова, мууандиси техники озмоишгоу (Чумхурият, №119, 20,06.2016) - Наша лаборатория является «глазами предприятия», -отмечает технический инженер лаборатории Мунира Олимджонова.
Одной из основных морфологических категорий, присущих именам существительным, является категория числа. Эта категория свойственна обоим языкам, в которых различают единственное и множественное число, но оформляется в них различными грамматическими показателями: флексиями в русском языке и суффиксами -ХО-, -ОН- (с его фонетическими вариантами -ЕН, -ГОН, -ВОН) в таджикском, при этом наличие суффиксов является показателем множественного числа, а их отсутствие - указывает на форму единственного числа. В отличие от русского языка, образование множественного числа имен существительных в таджикском языке проходит в рамках строгой унификации форм. Единственным средством для этого служат аффиксы -ХО и -ОН, присоединяющиеся к основе единственного числа, которая при этом никаким изменениям не подвергается.
Если в русском языке относительно категории числа выделяется три группы имен существительных: 1) существительные, имеющие форму и единственного числа и множественного; 2) существительные, не образующие формы множественного числа; 3) существительные, не имеющие формы единственного числа, то в таджикском языке мы наблюдаем несколько иную дифференциацию слов относительно их функционирования в единственном и множественном числе.
В формальном плане любое существительное в таджикском языке может образовывать форму множественного числа. Однако в практическом плане в языке отмечаются группы существительных, использующихся только в единственном числе. Это вещественные имена существительные (шир -молоко, охан - железо), отвлеченные существительные, эксплицирующие качество, свойство, действие (зебои - красота, омузиш - учеба), а также существительные, обозначающие природные явления (барц- молния, хаво - воздух).
В таджикском языке отсутствует группа существительных, обозначающих «парные» и составные предметы и имеющих только форму множественного числа (очки, ножницы, сутки, духи и т.д.), поскольку эквивалентные им существительные в таджикском языке выражены формой единственного числа.
Форму множественного числа как в русском, так и в таджикском языке не могут иметь абстрактные имена существительные: филология, идеализм, кардиология, сейсмография, волейбол, космология, мезозой, монархия и др.; вещественные имена существительные: волфрам, калсий, метан, кофеин, йод, аммоний и др.; существительные, обозначающие природные явления: сунами.
Примечателен факт фиксации отдельных существительных в форме множественного числа, что, возможно, указывает на отсутствие у этих слов формы единственного числа и, как правило, данные существительные образованы посредством суффикса -ХО: оксидхо - оксиды, пластидахо - пластиды, антибиотикхо - антибиотики, астероидхо- астероиды, бронххо - бронхи, гелогенхо - галогены, гаммашуъохо- гамма-лучи, субтропикхо - субтропики.
Таким образом, абсолютное большинство русско-интернациональных заимствований в таджикском языке может образовывать форму множественного числа: агент - агентхо, аквариум аквариумхо. айсберг - айсбергхо, бактерия - бактерияхо, биржа - биржахо, газопровод - газопро- водхо, вулцон - вулцонхо, генератор - генераторхо, демократ - демократхо, жанр - жанрхо, индикатор - индикаторхо и т.д.
В то время как в русском языке существительным свойственна корреляция по одушевленности и неодушевленности, особенностью существительных таджикского языка является дифференциация их на два класса: имена личные и неличные [Грамматикаи забони хозираи тоцик, 1985, с. 90]. То есть, для носителя таджикского языка все наименования животных и иных живых существ, за исключением людей, приравниваются с предметами неживой природы. Вопросительное местоимение КЙ? (кто?) соотносимо лишь с личными именами существительными, то есть с существительными, имеющими отношение к названиям человека (бародар - брат, муаллим - учитель). На вопрос ЧЙ (что?) отвечают все остальные существительные, в том числе и названия животных (донишгоу - университет, мор - змея). При этом разделение существительных на личные и неличные имеет принципиальное грамматическое значение. Следовательно, такие заимствования как ординатор, резидент, полковник, президент, прокурор, проректор, радист, романтик, сержант, самурай, снайпер, спикер, старшина, стюардесса в таджикском языке являются личными именами существительными и отвечают на вопрос КЙ? (кто?), тогда как пингвин, бактерии, микроб, вирус, шимпанзе, амёба, кенгуру, лама, медуза объединяются с предметами неживой природы, относятся к неличным существительным и отвечают на вопрос ЧЙ? (что?).
Основной отличительной особенностью таджикского существительного является выделение категории неопределенности, единичности и определенности. Эксплицирующими данную категорию средствами являются артикль -Е - ретсепте - какой-то рецепт, принсипе- какой-то принцип, фелдшере - какой-то фельдшер, миллионере - какой-то миллионер, и послелог -РО - микроскопро гир - возьми этот микроскоп (конкретный) в отличие от микроскоп гир - возьми микроскоп (какой-нибудь).
Дар ин бора дар брифинге, ки 17 июни соли цорй дар Вазорати корхои хориции Чумуурии Тоцикистон баргузор гардид, сухан рафт [Чумхурият, № 116, 16.06.2016]. - Об этом говорилось на одном из брифингов, который состоялся 17 июня текущего года в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан.
Дар нусхаи дуюм ва охирин, ки Дикмат Юлдошев аз нав кор карда баромад, се бинои алоуидаи каблй яицая шуда, руихавлии бино намуди амфитеатрро гирифт [Чумхурият, № 116, 16.06.2016]. -Во втором и последнем экземпляре, разработанном Хикматом Юлдашевым, три предыдущих отдельных здания были объединены и приняли форму амфитеатра.
Специфика значений неопределенности и определенности заключается в том, что они отражают не отношения между предметами и явлениями, существующие независимо от говорящих (например, значение падежей), а выражают отношение к предметам и явлениям участников акта общения - говорящего и слушающего. Сущность этого отношения заключается в том, что говорящий характеризует предмет, обозначаемый существительным, как известный или неизвестный для слушающего, учитывая осведомленность последнего в данном предмете. Если предмет неизвестен слушающему, то употребляется неопределенный артикль -Е, если известен - показатель определенности послелог -РО.
Заключение
Таким образом, морфологическое освоение русско-интернациональных заимствований обусловлено, прежде всего, разным типологическим строем таджикского и русского языков. Заимствованные лексические единицы с точки зрения носителей таджикского языка морфологически не разложимы, поскольку заимствованное слово воспринимается как единая единица, к которой при словообразовании и словоизменении возможно присоединение таджикских аффиксов. В таджикском языке теряют свою значимость показатели множественного числа и родовые окончания заимствованного слова. Заимствованные единицы легко становятся компонентами системы словоизменения и словообразования, поскольку в таджикском языке не имеют места проблемы вступления в новые для них разряды склонений и спряжений.
Морфологический анализ показывает, что заимствуются таджикским языком исключительно имена существительные, которые в ходе морфологической адаптации могут служить производной основой для других существительных и прилагательных таджикского языка. Абсолютное большинство исследуемой лексики заимствуется языком-реципиентом в своей начальной форме в именительном падеже единственного числа. Образование множественного числа заимствований проходит по аналогии с исконной лексикой в рамках строгой унификации форм. Русско-интернациональная лексика способна вступать в характерные для таджикской грамматики новые грамматические категории, в частности, категории лица-нелица, категории неопределенности, единичности и определенности.
Список литературы Морфологическое освоение русских интернационализмов в таджикском языке
- Аверина А.В. Природа синтаксической неподчинимости // Вестник Московского государственного областного университета. № 3. 2016. С. 140-150
- Грамматикаи забони адабии хозираи точик. Ч.1. Душанбе: Дониш, 1985. 355 с.
- Крысин Л.П. Этапы освоения иноязычного слова // Русский язык в школе. № 2. 1991. С. 74-78.
- Рустамов Ш. Имя существительное в современном таджикском литературном языке: (существительное в системе частей речи, грамматические категории, словообразование и синтаксические функции). Автореф.. д. филол. н. Душанбе, 1972. 45 с.
- Сорокин Ю.А. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. 160 с.