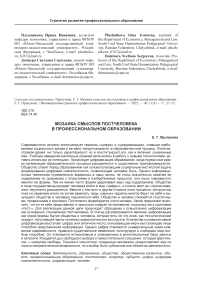Мозаика смыслов постчеловека в профессиональном образовании
Автор: Прилукова Екатерина Григорьевна
Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo
Рубрика: Стратегия развития профессионального образования
Статья в выпуске: 1 (33), 2022 года.
Бесплатный доступ
Современность активно эксплуатирует термины «цифра» и «цифровизация», ставшие требованием социального заказа и активно «вторгнувшиеся» в образовательный процесс. Понятия, отражая время, не только характеризуют, но и конституируют его, как и явления, означенные ими. Учебные заведения различных уровней включились в работу с новыми технологиями, активно используя их потенциал. Происходит цифровизация образования, когда привычные рамки организации образовательного процесса расширяются и существенно трансформируются. Общество ставит перед образованием как основополагающим социальным институтом задачу формирования цифровой компетентности, позволяющей человеку быть. Однако информационные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь; не столь значительно изменяя ее содержание по сравнению с открытиями и изобретениями прошлого, они лишь повсеместно меняют ее формы. Тем не менее часто форма одерживает верх над содержанием. Общество в лице государства вынуждает человека войти в мир «цифры», и список мест ее «проникновения» неуклонно расширяется. Вместе с тем есть и другая сторона этого процесса, которую мы пока не замечаем и/или не хотим замечать, ведь «умные» гаджеты многое берут на себя и вынуждают общество и человека подчиняться себе. Общество и человек становятся пластичными, прозрачными и хрупкими. Постепенно формируется (пост)человек. Автор предлагает выяснить, что он из себя представляет и насколько следует за человеком, поскольку есть приставка «пост-». Для реализации данной цели происходит обращение к осмыслению цифровизации как основанию становления постчеловека. В статье рассматривается явление цифровизации как новой формы бытия общества и человека, которая есть не что иное, как технологический продукт, получивший черты политико-идеологического конструкта. В качестве основания самой цифровизации выступает цифра, или античное число, описывающее мир и выступающее лишь способом представления информации. Однако цифра становится универсальным знако-символом современности, привнося существенные изменения, конструируя и «собирая» мир особым способом. Он становится исчисляемым и упакованным в многочисленные базы данных и каталоги. Рождается дух свободного выбора и самостоятельного решения, который фактически - симулякр свободы. Техника и технологии, созданные человеком, предоставляют ему не только неограниченные возможности, но и выбор быть субъектом или объектом деятельности.
Деятельность, образование, общество, общественное развитие, объект, профессиональное образование, постчеловек, симулякр, субъект, цифра, цифровая компетентность, цифровизация, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/142234609
IDR: 142234609 | УДК: 378
Текст научной статьи Мозаика смыслов постчеловека в профессиональном образовании
Современность активно эксплуатирует термины «цифра» и «цифровизация» как некую фиксацию социального заказа времени настоящего, в условиях которого они стали одними из самых употребляемых: цифровое общество, цифровая индустрия, цифровая культура, цифровая преступность, цифровая педагогика, цифровая смерть или бессмертие и т. п. [1]. Понятия у каждого времени свои и отчасти его не только характеризуют, но и конституируют. С течением времени их содержание меняется. Информационные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь и дали жизнь новым (или прежним ?) понятиям, став неотъемлемой частью повседневных процессов. Тем не менее, они (технологии) не столь значительно меняют содержание мира по сравнению с открытиями и изобретениями прошлого, они лишь повсеместно меняют его формы .
Вместе с тем общество в лице государства вынуждает человека войти в мир «цифры» — повсюду «умирают» книги и журналы на бумажном носителе (неэкономичны для рынка), детские игры, развивающие мелкую моторику, оказываются «за стеклом» («не цепляют» потребителя); банковские карты с их потенциалом возможностей по оказанию различных услуг (особенно онлайн), дистанционные образовательные технологии и многое другое. Список проникновения «цифры» можно продолжить, и он будет, безусловно, расширяться. Однако есть и другая сторона этого процесса, которую мы пока не замечаем и/или не хотим замечать, потому что наша жизнь существенно трансформируется — она упрощается: «умные» гаджеты решат, подскажут, предупредят, напомнят, посоветуют и т. д. Как следствие, нарастает зависимость человека от технологий (не самостоятельность и творчество, а креатив). Общество становится пластичным, а люди одинаковыми зачастую не только в своих поступках, но и в мыслях. Постепенно начинает форм-иро-ваться и про-являться новый — цифровой — человек, или «(пост)человек». Обычно понятие появляется вслед за про-явлением самого события или процесса, фиксируя и транслируя его [2]. Поэтому важно попытаться определить, что есть человек цифровой эпохи и так ли он отличен от человека вообще. Актуализируются вопросы формирования цифровой культуры и цифровой компетентности, решение которых зависит от функционирования и содержательного наполнения образования, ибо оно во многом конституирует человека как субъекта деятельности, являясь инструментом накопления социального капитала [3]. Для этого прежде необходимо понять, что представляет собой цифровизация — она содержание или форма и чего? Продиктовано это тем, что новый человек порожден ею (?) или только дискурсом (?) о ней. Тем не менее, отношения общества и человека изменяются.
Несмотря на широкое применение понятия «цифровизация», оно не имеет четкой дефиниции. Чаще всего авторы предлагают его рассматривать как феномен, появившийся в результате развития цифровых технологий. Сам термин «цифровизация» используется как в широком, так и в узком смысловых полях — от вектора мирового развития до преобразования информации в цифровую форму. Именно форму (но не более), которой присваивается содержание и придается статус некой панацеи от всех проблем, хотя говорить об абсолютном отказе от аналоговых систем и переходе только к цифровым технологиям работы с информацией не приходится [4]. Справедливости ради следует заметить, что четкость дефиниции не состоялась и в зарубежной литературе [5].
Проанализировав многочисленные определения, мы выяснили, что выйти за операционнотехнологические рамки смысла цифровизации не представляется возможным. Следовательно, на наш взгляд, вполне справедливо вести речь о технологическом продукте, приобретающем черты политико-идеологического конструкта, прежде всего, западно-ориентированных рито-рик и практик осмысления и описания реальности. Тому есть ряд аргументов. Во-первых, среди тех, кто активно и даже, можно сказать, агрессивно использует «цифру» и цифровизацию в анализе социокультурной динамики, — представители научного сообщества Японии, США и Западной Европы (Ю. Хаяши, З. Бжезинский, Е. Масуда, М. Кастельс, Н. Негропонте и др.). Во-вторых, обоснование цифровизации все-таки как технологии подтверждают данные, представленные из различных документов «цифрового» национального проекта страны — госуслуги онлайн, цифровой профиль гражданина, электронный документооборот, доступ в интернет, создание цифровых двойников на производстве и в других отраслях экономики, виртуальных концертных залов, оцифровывание книжных памятников, подготовка кадров для ИТ-сферы и т. п. [6]. В-третьих, в основе цифровизации лежит цифра, или античное число (как сущность всех вещей), фиксирующая и отражающая количественные, но не качественные представления — численное описание мира, способ представления информации, но не сама информация, она (цифра) — всего лишь определенный код [7]. Став вербальным маркером современности, цифра как «языковой знак произвольна» и во многом ее содержание определяется тем, кто о ней пытается говорить [8, с. 70]. Тем не менее, она вносит существенные изменения в нашу жизнь, превращаясь в конструктор социокультурного миропорядка и осуществляя «сборку» мира путем перевода его в цифру (1,0), которая становится культурным кодом. Общество быстро включается в глобальное потребление (за быстрый доступ к огромным массивам информации, закрепленной в цифровой форме, нужно платить — каналы связи, доступ в сеть, контент — и беспрестанно тиражировать информацию, чтобы она была постоянно востребована), развитие становится узко и прагматично направленным, подчиняясь «цензуре» рынка. Все становится исчисляемым и упакованным в многочисленные каталоги. Техника и технологии цифры оказались способными вместить и сохранить все то, что не способна была сделать память человека, и появилась уверенность — ничего не пропущено. Сформировался новый дух — дух свободного выбора и самостоятельного решения каждого быть к нему причастным, но он оказался симулякром свободы.
Мир стал прозрачным, и обозначилась практически нерешаемая проблема для человека — он стал соблазнительно «обнаженным»: наряду с безграничными возможностями использования той или иной информации его личные данные (информация) становятся достоянием всех [9]. Разговоры о стремлении к безграничной свободе робко начинают сменяться разговорами об ее утрате, ибо «всевидящее око» «большого брата» тотально, вполне законно и легитимно зрит [10]. Рынок как основной системообразующий элемент общества потребления заслоняет собой многообразие проявлений творчества человека — все должно быть массово потребляемым.
Цифровые технологии появляются в модели нового человека — постчеловека. Настало время обратиться к нему. Звучание темы о постчеловеке связано в основном с формированием и развитием представлений о постиндустриальном (ин-формационном/знаниевом) обществе. По мере становления общества информации он (человек) проходит путь от «ищущего знания» и ориентирующегося на творческий поиск — к «ищущему информацию» и уповающему на «знание», получаемое с помощью технологий. Кроме того, он стремится к своему улучшению, прежде всего в телесном плане, за счет использования достижений науки (NBIC-технологии). В силу того, что термин «постчеловек» распространен, он, как и цифровизация, не имеет четкого определения и довольно часто рассматривается в рамках идей трансгуманизма, который представляет человека, изменяющегося под воздействием генной инженерии, сохраняющего природные свойства, обретающего свойства вещей. Особо «причастны» к этому процессу иммортализм, искусственный интеллект и нанотехнологии.
Архитектонику человека через призму эволюции средств коммуникации предложил еще М. Маклюэн, она во внешнем его расширении. «Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне — стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы» [11, с. 6]. Ограниченный и несовершенный с точки зрения природы человек обрел безграничные возможности, что позволило говорить в дальнейшем о расширенном уме [12] и распределенном познании [13]. Таким образом, постчеловек одновременно и антропологическая, и социальная проекция эволюции. Как бы мы ни представляли человека в новом обществе — обществе высоких технологий, прежде всего информационно-коммуникационных, он был и остается главным субъектом деятельности, он и личность, и природа. Именно развитие и усложнение деятельности привели к небывалым изменениям в обществе, человеке и его сознании. Деятельность открыла новые возможности для них: она вызвала к жизни объединение способностей человека и позволила им воплотиться в различных формах вещественных структур и технологических процессов. Однако сам человек, будучи субъектом, способен своим вторжением в свою природу превратить себя в объект.
Цифровая техника и цифровые технологии как результат деятельности человека, изменяя социокультурную реальность, способны спровоцировать мир тотального обмана и сконструировать мир господства симулякров. Человек, погруженный в беспрерывный информационный поток, — благоприятный объект для манипуляции его сознанием. Наиболее ярко это проявляется сегодня в самых значимых сферах существования общества — медицине, образовании и науке, когда клиническая, образовательная и научно-исследовательская культуры вытесняются цифровыми технологиями, позволяющими быстро находить информацию. Тем не менее, обладание неограниченной информацией автоматически не ведет к качественному лечению, образованию и проведению исследований (особенно в фундаментальной науке) — ее практическое применение зависит от когнитивных компетенций делающего выбор и принимающего решение человека. Отобранная информация может, во-первых, оказаться недостоверной и требующей проверки, во-вторых, различна в интерпретации (многозначность терминов, специфика употребления в той или иной отрасли, особенности перевода, возможности программного обеспечения, технический ресурс самих технологий и т. п.).
Конечно же, более утонченно цифровизация проявляется в стремлении реализовать возможность установления тотального контроля над личностью. «Цифровой след» не столь безобиден — большие данные, блокчейн, нейронные сети, искусственный интеллект одновременно не только технологии поиска данных, но и технологии их обработки и анализа. Яркий пример тому — система образования. Первоначально компьютер «пришел» в помощь педагогу/препо-давателю, не претендуя на его место. Диктатура рынка и системы управления образованием привели к выводу о необходимости оцифровать учебный/научный контент (генерация материала инструментами искусственного интеллекта) и оптимизировать систему (передавать учебную информацию и контролировать усвоение знаний с помощью технологий массовых открытых онлайн-курсов — МООК). Фактически это процесс формирования стандартизированного «квалифицированного потребителя» информации как знания. Иными словами, это простой и довольно эффективный способ формирования одинаково мыслящей аудитории.
Знания цифруются и помещаются в глобальное сетевое пространство, подвергаются расчленению и дроблению — их так удобнее усваивать поколению «next» с ярко выраженным клиповым мышлением. Однако оцифрованные знания легко подделать, потому что цифра дискретна. Начинается непрерывная работа «Министерства правды» на просторах Сети, факты переписываются, им придаются новые смысловые оттенки. Рождается не только новая история, но и желание в ней поучаствовать, чтобы получить побольше лайков. Постепенно появляются новые ценности — презентовать себя миру, сконструировав те или иные факты, представить постправду как норму и многое другое. Производство знания теперь не принадлежит представителям научного сообщества, оно создается и воспроизводится пользователями Сети. Нарастает неопределенность: мир таков, как его представила наука, или он таков, как в Сети, где одним из его авторов выступает пользовательское «я», «принимающее в качестве достоверного только то, что представляется ясно и отчетливо моему уму», согласно первому правилу метода Декарта [14], или мир гораздо сложнее?
Безусловно, нельзя отказываться от того положительного, что дают обществу и человеку цифровые техника и технологии, но и нельзя им абсолютно и безоговорочно доверять, ибо за каждым из них стоит человек. Реальная жизнь начинает соперничать с виртуальной, потому что чем больше возможностей, тем больше соблазна, в том числе и отказаться от себя как субъекта, становясь объектом. Однако важно помнить, что за виртуальной реальностью стоит все-таки человек-субъект, ведь создана она им. Тем не менее, в настоящее время ведется разговор все чаще о негативных особенностях «поколения цифры» (образное восприятие реальности, неустойчивое внимание, клиповое мышление, бедность мировоззренческих паттернов организации жизнедеятельности и т. п.), требующих существенно изменять традиционные педагогические методики и методы. Причиной тому служит «передача» детей родителями гаджетам, становящимся основными акторами и агентами первичной социализации. С этими характеристиками нельзя не согласиться, но нельзя и превращать их в непреодолимый барьер в работе с представителями «цифрового поколения», что важно учитывать в организации профессионального образования. Важные их черты, которые необходимо использовать для формирования рационально-критического мышления, — открытость новому, нелинейность мышления, уверенность в себе и самостоятельность, высокая скорость поиска информации и принятия решений. Следовательно, основным вектором их профессионального становления можно рассматривать разработку индивидуальной траектории развития личности. Система профессионального образования — пространство, где формируется человек, инструментальные возможности и способности которого как субъекта деятельности получают все большее развитие. Именно она (система) предлагает компетенции, необходимые для непрерывного саморазвития личности на протяжении всей жизни, и учит формировать цифровую идентичность. Человека достаточно грамотного нельзя оцифровать!
Список литературы Мозаика смыслов постчеловека в профессиональном образовании
- Халин, В. Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В. Г. Халин, Г. В. Чернова // Управленческое консультирование. — 2018. — № 10. — С. 46-63.
- Сорина, Г. В. Философские ассоциации (на базе критического мышления) / Г. В. Сорина // Труды научно-исследовательского семинара логического центра Института философии РАН 1998. — Москва : ИФ РАН, 1999. — С. 41-48.
- Константинова, Д. С. Цифровые компетенции как основа трансформации профессионального образования / Д. С. Константинова, М. М. Кудаева // Экономика труда. — 2020. — Т. 07. — № 11. — С. 1055-1072.
- Райков, А. Н. Ловушки для искусственного интеллекта / А. Н. Райков // Экономические стратегии. — 2016. — № 6. — С. 172-179.
- Bloomberg, J. Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Confuse them at Your Peril / J. Bloomberg // Forbes : [сайт]. —2018. — Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/ jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digitaltransformation-confuse-them-at-your-peril/#72cd10a42f2c (дата обращения: 06.01.2022).
- Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р // Информационно-правовая система Гарант : [сайт]. — 2022. — URL: https:// garant.ru>products/ipo/prime/doc/71634878/ (дата обращения: 19.01.2022).
- Prilukova, E. G. The shadows of the power in a modernity / E. G. Prilukova // SGEM 2016 : 3 International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. 24-30 August, 2016. Albena, Bulgaria. — Sofia: STEF92 Technology Ltd., 51 «Alexander Malinov» Blvd. — P. 925-928.
- Де Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр. — Москва : Едиториал УРСС, 2004. — 270 с.
- Кин, Э. Ничего личного: как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные / Э. Кин. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 224 с.
- Носырев, И. Стив Возняк — РБК: Цифровая революция делает нас все более одинаковыми : интервью / И. Носырев // РБК : [сайт]. — 2018. — 6 апреля. — URL: https://www.rbc.ru/ own_business/05/04/2018/5ac5fd839a79479763f1b3be (дата обращения: 18.01.2022).
- Маклюээн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева. — Москва : Жуковский, 2003. — 346 с. — ISBN 5-8690-102-X.
- Clark, A. The Extended Mind / A. Clark, D. Chalmers // Analysis. — 1998. — Vol. 58. — № 1. — P. 7-19.
- Hutchins, E. Cognition in the Wild / E. Hutchins. — Cambridge: The MIT Press, 1995. — 408 p.
- Декарт, Р. Рассуждения о методе / Р. Декарт. — Москва : АСТ, 2020. — 416 с. — ISBN 5-244-00022-5.