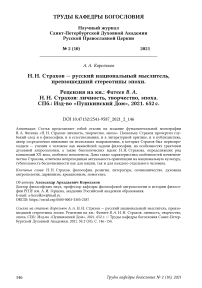Н. Н. Страхов - русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи. Рецензия на кн.: Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во "Пушкинский дом", 2021. 652 с
Автор: Корольков Александр Аркадьевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Отзывы и размышления над книгами
Статья в выпуске: 2 (10), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой отклик на издание фундаментальной монографии В. А. Фатеева «Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха». Поскольку Страхов прочертил глубокий след и в философии, и в естествознании, и в литературной критике, и в публицистике, автор сосредоточил внимание на нескольких направлениях, в которых Страхов был первопроходцем - учении о человеке как важнейшей задачи философии, на особенностях трактовки духовной антропологии, а также биологических идеях Н. Н. Страхова, определивших ряд концепций ХХ века, особенно номогенеза. Дана также характеристика особенностей почвенничества Страхова, отмечена непреходящая актуальность ориентации на национальную культуру, губительность беспочвенности как для нации, так и для каждого отдельного человека.
Н. н. страхов, философия, религия, литература, почвенничество, духовная антропология, дарвинизм, креационизм, номогенез
Короткий адрес: https://sciup.org/140294886
IDR: 140294886 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_2_146
Текст научной статьи Н. Н. Страхов - русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи. Рецензия на кн.: Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во "Пушкинский дом", 2021. 652 с
Об авторе: Александр Аркадьевич Корольков
Доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена, академик Российской академии образования.
Ссылка на статью : Корольков А. А . Н. Н. Страхов — русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи. Рецензия на кн.: Фатеев В. А . Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2021. 652 с. // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 2 (10). С. 146–154.
PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF THEOLOGY
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No. 2 (10)
Alexander A. Korolkov
Nikolay Strakhov, a Russian National Thinker, Who Overcame the Stereotypes of His Time.
Review of the book N. N. Strakhov: His Personality, His Creative Work and His Time by Valery A. Fateyev. St. Petersburg: Pushkin House Publishers, 2021. 652 pp.
DOI 10.47132/2541-9587_2021_2_146
Article link : Korolkov A. A. Nikolay Strakhov, a Russian National Thinker, Who Overcame the Stereotypes of His Time. Review of the book N. N. Strakhov: His Personality, His Creative Work and His Time by Valery A. Fateyev. St. Petersburg: Pushkin House Publishers, 2021. 652 pp. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2021, no. 2 (10), pp. 146–154.
Первая глава объемной монографии В. А. Фатеева о Николае Николаевиче Страхове имеет заголовок «Против течения плыть всегда трудно», с этим заголовком соседствует эпиграф, цитирующий фрагмент письма самого Страхова: «На моей могиле можно будет, конечно, написать: один из трезвых между угорелыми». Такое завещание, естественно, не выполнено, могила его не удостоилась близости к центральным дорожкам, но неподалеку Свято-Владимирская школа и храм при ней. Похоронен Н. Н. Страхов на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. В 2020 году пришли мы с В. А. Фатеевым поклониться могиле выдающегося русского философа, ученого, литературного критика, публициста. Оказалось, что разросшееся над могилой дерево почти выдавило надгробие, мраморная пирамида накренилась до критического положения. Мы немедленно обратились в администрацию города с письмом, которое подписали уважаемые деятели культуры. После этого могилу стали обихаживать, по крайней мере, катастрофы удалось избежать. Теперь предстоит очистить белый мрамор от вековой копоти.
Валерий Александрович Фатеев — редкий для нашего столетия исследователь: основательность его книг сопоставима скорее с изданиями века девятнадцатого. Хотя в последние два-три десятилетия немало написано о В. В. Розанове, но Фатеев создал фундаментальное «Жизнеописание Василия Розанова», которым с доверием пользуются все, кто хочет войти в подлинную творческую биографию противоречивого мыслителя1. Подготовительную работу к монографии о Н. Н. Страхове Фатеев начал еще в пору написания книги о Розанове, в которую он уже включил очерк о знакомстве и духовном общении двух выдающихся деятелей. Появлению в печати монографии о Страхове предшествовали публикации статей В. А. Фатеева в сборниках, журналах, в том числе в изданиях Санкт-Петербургской духовной академии2. Книги Фатеева выглядят как совокупный результат деятельности большого исследовательского коллектива, и приходится поражаться, что авторство принадлежит одному человеку. Понятно, что в журнальной рецензии невозможно обозреть разнообразие сюжетов этого труда, раскрыть особенности и глубину мировоззрения Страхова, определившего судьбы почвенничества и консерватизма в их противостоянии нигилизму, западничеству и либерализму. Попытаюсь затронуть лишь две темы — философскую и естественнонаучную, в которых звучит подспудно религиозный мотив. Фатеев предостерегает поспешного читателя словами самого Страхова: «Легко это сказать, легко произнести это слово — религия, но вовсе не легко воссоздать в своем уме тот смысл, который действительно соответствует этому слову»3. Прямые высказывания о религии у Страхова трудно отыскать, появлялись даже предположения об его равнодушии, безразличии к вопросам веры. Фатеев бережно собрал фрагментарные сведения по этому вопросу и поделился найденным с читателями. Причем не только бесспорными свидетельствами, но и возникающими при внимательном отношении к текстам Страхова сомнениями. В чем-то переход Страхова к аскетическому образу жизни сходен с преодолением языческого жизнелюбия К. Н. Леонтьевым, но большое различие состоит в том, что Леонтьев в свои сорок лет пережил страх смерти и его горячая молитва перед иконой Богородицы вернула ему силы для последующих двадцати лет интенсивной творческой работы и монашеского подвига. В. А. Фатеев оценивает выбор Страховым холостяцкого образа жизни как «скрытый поворот к религиозности, только не церковной, а личной, сугубо внутренней, с мистико-этическим стержнем»4.
Страхов не разделял фантастических и уже входивших в моду гипотез о переселении человечества на другие планеты и об открытии на них разумных существ. «Вместо придуманных чудес он призывает человечество довольствоваться таким чудом, как сам человек и его внутренний мир, бережно относиться к своей собственной планете… Чрезвычайно смелая в научном отношении гипотеза Страхова, — отмечает Фатеев, — скорее способствует повороту человеческой мысли к исканию во вселенной не инопланетян, а ее подлинного создателя, Бога»5. Человек в его философско-религиозных представлениях — вершина творения, бессмысленно искать в космосе творения более совершенные. Такие отрезвляющие мысли обращены и к нашему времени.
Реконструкция взглядов Н. Н. Страхова сложна. Прежде всего, она требует способности аутентично отразить глубину его философских, естественнонаучных, литературных, мировоззренческих идей, оспариваемых не только его современниками, но и современниками нашими. И все же сразу отмечу, что В. А. Фатееву удалось раскрыть универсализм дарований Страхова. Этот универсализм не разглядел даже проницательный Лев Николаевич Толстой, по-дружески настойчиво советовавший Страхову не тратить время на литературно-критические статьи — хотя сам дорожил тем, что написал об его прозе философствующий критик, — а заниматься серьезной философией. Эту слиянность философского и литературного дара отмечает Фатеев: «Потребность высказываться, разъяснять, опровергать и спорить жила в нем всегда и неодолимо требовала выхода — как, впрочем, и склонность к уединенному сосредоточению и углубленному философскому размышлению»6.
Было бы несправедливо сказать, что Н. Н. Страхов был предан забвению в истории философии и литературы. Писали о нем философы русского зарубежья, в учебниках по истории русской философии В. В. Зеньковского и Н. О. Лосского имелись небольшие разделы о творчестве Страхова, однако эти учебники стали доступны в России лишь в 70-е годы. С. А. Левицкий называл Страхова профессиональным философом, подчеркивал его философское влияние на Толстого: «Одно время он был другом Достоевского и состоял как бы “философским информатором” великого писателя»7. При большом желании можно было, разумеется, раздобыть сочинения Страхова у букинистов. Нашлось место для статьи о нем в пятитомной Философской Энциклопедии 60-х годов ХХ века, а немного позднее был достойно издан том его литературной критики. Преподававшие нам на философском факультете Ленинградского университета профессора А.А. Галактионов и П.Ф. Никандров излагали идеи Страхова в лекционном курсе и включили несколько страниц о нем в главу учебника «История русской философии», первое издание которого появилось в 1970 г. Они отмечали заслуги Страхова в создании системы «рационального естествознания», но порицали за «глубокие религиозные убеждения, которые не покидали его на протяжении всей жизни и составили впоследствии важнейший элемент его философии»8. Явно негативно-пренебрежительное отношение к наследию Страхова прочитывается едва ли не в каждом абзаце этого учебника: «Из собственных работ можно указать на три книжки (! — А. К.), в которых автор нападает (! — А. К.) на европейский рационализм, отвергает дарвинизм и стремится перетолковать творчество русских писателей в славянофильском духе»9. Студенты философских факультетов широко пользовались томами Куно Фишера по истории западноевропейской философии, но мало кто знал, что переводы этих книг с немецкого принадлежали Н. Н. Страхову. Мне на этот факт открыла глаза книга Фатеева; факт только внешне незначительный, но значимый для философии.
В книге Фатеева отдано должное работам филологов, которые не могли не оценить дружбу и переписку Н. Н. Страхова с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, его критические статьи о литературе и писателях. Упоминали его и биологи, но чаще походя и в отрицательном ключе как ниспровергателя дарвинизма; книга В. А. Фатеева помогает разобраться и в этих оценках. Страхов раньше других прозрел изъяны дарвинизма, и неслучайно в ХХ веке у него обнаружились талантливые последователи, в частности, Л. С. Берг, автор книги «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей», изданной впервые в 1922 г. Философски эта книга противостоит абсолютизации случайности. Подлинные ученые умеют ценить силу аргументации своих теоретических оппонентов. Сторонники синтетической теории эволюции, преемницы в основных своих постулатах классического дарвинизма, К. М. Завадский и А. Б. Георгиевский, в 70-е годы ХХ века подготовили издание избранных трудов Берга по теории эволюции и в предисловии к этому тому назвали Страхова предшественником идей «автономического телеогенеза», которые
«были окрашены в клерикальную форму»10. Для времен государственного атеизма упоминание о клерикализме становилось знаком осуждения ученого за отступление от научности. К тому же телеогенез предполагал имманентную целесообразность в живой природе, внутреннюю программированность эволюционного развития, подобную генетической программированности онтогенеза. К тому же Берг неизменно в эпиграфы к главам своей книги выносил высказывания Н. Н. Страхова рядом с цитатами из Гете, т. е. тем самым приравнивал русского антидарвиниста к классику не только поэзии, но и биологии. Страхов для Берга стоял у истоков критики селекционизма. К плеяде таких критиков он причислял также Н. Я. Данилевского, что было очевидным и для Страхова, который одобрительно говорил и писал о труде Данилевского «Дарвинизм», ставшем классикой антидарвинизма. Селекционизм предполагает длительную историю формирования адаптаций, но и Страхов, и Берг обоснованно доказывали, что целесообразные приспособления появлялись подчас в таких условиях, с которыми организму и популяции не приходилось сталкиваться, и, таким образом, не могли иметь никакого отношения к естественному отбору. Современная генетика, молекулярная биология с каждым десятилетием расширяли доказательность того самого телеогенеза, о котором писал Страхов. Берг, стремясь к образному прояснению мысли Страхова, указывал, что ключ к замку можно подобрать из случайно подвернувшейся связки, но можно открыть «одним, специально для него прилаженным клю-чом»11, т. е. может проявиться непосредственная целесообразность. Не случай, но закон определяет направление эволюции, «роль естественного отбора сводится к нулю, как это великолепно выразил Страхов еще в 1873 году»12.
Я рискнул дополнить приведенные Фатеевым аргументы о научной состоятельности критики Страховым дарвинизма, поскольку много лет занимался философскими проблемами биологических теорий эволюции под руководством известного эволюциониста К. М. Завадского и участвовал во многих дискуссиях, в которых происходили схватки убежденных сторонников синтетической теории эволюции, считавших себя современными дарвинистами, и их не менее убежденных противников — А. А. Любищева, а отчасти С. В. Мейена, искавших компромисс между селектогенезом и номогенезом. Фатеев очень корректно освещает содержание этого противостояния в науке, его интересует неординарность позиции Страхова, которая остается таковой до сих пор. «Ученые-креационисты опираются не только на новейшие научные открытия, но и на идеи, которые содержатся в трудах Н. Н. Страхова и Н. Я. Данилевского»13. Отрадно отметить, что имя Н. Н. Страхова уважительно упоминали в своих выступлениях биологи разных направлений — Н. В. Тимофеев-Ресовский, А. В. Яблоков, С. В. Мейен.
Антропологический поворот в философии ныне связывают чаще всего с именем немецкого философа Макса Шелера. Фатеев внимательно отнесся к исследованиям профессора политехнического университета Н. П. Ильина, создавшего Философское общество имени Н. Н. Страхова, написавшего прекрасное предисловие к основному философскому труду великого русского мыслителя «Мир как целое», в котором Страхов с горечью констатировал, что редкие натуралисты, позитивисты готовы признать центральное положение человека в мире и выражал свое твердое убеждение, что «человек — вот величайшая загадка, узел мироздания…, он занимает центральное место по всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое»14. Н. П. Ильин со всей определенностью писал, что Герман Лотце15 и Николай Страхов явились подлинными основоположниками философской антропологии, а забвение их трудов в ХХ веке отнюдь не пошло на пользу дальнейшему развитию этой области философии16.
В. А. Фатеев, опираясь на тексты Н. Н. Страхова, критически относится к разрастающемуся употреблению в различных контекстах термина «антропология», а тем более «духовная антропология». Если следовать взгляду Страхова, то «духовная философия» возможна, а «духовная антропология» — нет. В этом пункте вынужден отстаивать оправданность названия моей книги «Духовная антропология»17. В частности, читаем: «Страхов был убежден, что определения типа “духовная антропология”, в которых сочетаются физические и духовные элементы, не имеют права на существование»18. Это критическое отношение совершенно справедливо, если соотнести его с контекстом, в котором подразумевается спиритизм. Между тем, есть иная традиция развития духовной антропологии, которую развивали православные богословы. Убедительные аргументы в пользу ее выдвигал, например, архимандрит Киприан (Керн) в своем вступительном слове на защите диссертации на соискание ученой степени доктора церковных наук «Антропология св. Григория Паламы», произнесенном 3 апреля 1945 г. в совете Православного Богословского института в Париже: «Самое важное, что принесло с собою христианское богословие, это — понятие значимости и ценности человеческой личности, выраженное в учении об обожении человека и спасении каждой индивидуальной личности»19. Он также отмечал, что христианская антропология была развита в святоотеческой литературе, в ней обсуждались темы происхождения человека, его назначения, свободы, творчества, ответственности, богоподобия. Христологическую тему архимандрит Киприан (Керн) также считал отчасти антропологической. Есть совокупность проблем, нацеленных на выявление надприродности человека, его духовных устремлений, что выявляет В. А. Фатеев в произведениях Н. Н. Страхова, который утверждал, что «если в одном лишь человеке могла проявиться божественная красота, то он уже этим стоит выше всего животного царства»20. Между тем, эстетическое отношение к миру — лишь одна из граней человеческих духовных способностей. Неслучайно Фатеев воспроизводит слова одного из яснополянских посетителей, который отрекомендовал Страхова «как специалиста, умеющего показывать черту между духовным и материальным»21.
Конечно, исторически сложившаяся антропология была и остается описательной, как ее и характеризовал Страхов, оттого и до сих пор существуют на биологических кафедрах антропологические кабинеты, где нередко в качестве главного наглядного пособия выставлен скелет человека (в одном европейском университете — скелет профессора, по его завещанию сохраненный в его рабочей аудитории). И все же трудно согласиться с тем, что антропология обречена оставаться эмпирической наукой, подобной систематической зоологии или анатомии.
Во все литературные и философские энциклопедические справочники Страхов вошел как почвенник, активно сотрудничавший в редакции журнала «Время» с братьями Федором и Михаилом Достоевскими и Аполлоном Григорьевым. О почвенничестве Страхова Фатеев повествует не только в главе «Россия и Запад» — взгляд «почвенника» обнаруживается едва ли не во всех разделах этой объемной книги, ибо речь идет о стержне всех его размышлений и исканий. Понятие «почвы» более емкое и точное, чем, например, предложенное евразийцем П. Н. Савицким понятие «месторазвития». Неслучайно своеобразное преломление почвенничества обнаруживается в западной философии: когда Хайдеггер образно говорит о том, что на асфальте ничего не растет, то он почти цитирует Ф. М. Достоевского, единомышленника Страхова: «Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва»22. Беспочвенность губительна и для нации, и для отдельного человека. Оттого целительно в наше время для укрепления значимости национальной культуры в формировании личности усваивать почвеннические мысли отечественных классиков. Н. Н. Страхов — почвенник, его книга «Борьба с Западом», как показал Фатеев, хотя и сложилась из статей, написанных в разные годы, но по праву воспринимается как целостное произведение.
Книга В. А. Фатеева превосходит задачи описания творческой биографии одного человека, она — об эпохе, о взаимоотношениях, соработничестве и противоречиях людей, которые в конечном счете определили лицо этой эпохи. Стоит окунуться в страницы, указанные в именном указателе монографии, чтобы убедиться, как много внимания уделено Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому, Ап. А. Григорьеву, К. Н. Леонтьеву, Н. Я. Данилевскому, Ю. Н. Говорухе-Отроку, А. Н. Майкову, В. В. Розанову, Вл. С. Соловьеву, Н. Г. Чернышевскому, Д. И. Писареву, Я. П. Полонскому, М. П. Погодину, К. П. Победоносцеву… Даже назвать всех невозможно, это историческая панорама в лицах. Трудно обозреть все, написанное Страховым, но не менее трудная задача даже бегло рассказать о многообразии сюжетов, которые обнаруживаем в книге, ставшей поводом для актуализации разговора о Страхове. Монография В. А. Фатеева — это энциклопедически полное исследование (насколько это возможно в рамках одной книги) о многогранности и значимости для нашего времени творчества Н. Н. Страхова.
Список литературы Н. Н. Страхов - русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи. Рецензия на кн.: Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во "Пушкинский дом", 2021. 652 с
- Берг Л. С. Труды по теории эволюции, 1922-1930. Л., 1977. 377 с.
- Галактионов А.А., Никандров П. Ф. Русская философия IX-XIX вв. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989.
- Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 18. Л., 1978. 372 с.
- Завадский К. М., Георгиевский А. Б. К оценке эволюционных взглядов Л. С. Берга // Берг Л. С. Труды по теории эволюции. Л., 1977.
- Ильин Н. П. Последняя тайна природы. О книге «Мир как целое» и ее авторе // Страхов Н. Н. Мир как целое. Черты из наук о природе. М., 2007. С. 5-76.
- Киприан (Керн), архим. Тема человека и современность // Православная мысль. 1948. Вып. VI.
- Корольков А.А. Духовная антропология. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. 323 с.
- Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Frankfurt/Main: Посев, 1983.
- Страхов Н.Н. Мир как целое. Черты из наук о природе. М.: Айрис-пресс, 2007. 576 с.
- Фатеев В.А. «Пустынножитель» (Непройденный путь философа Николая Страхова) // Христианское чтение. 2016. № 1. С. 145-175.
- Фатеев В.А. Жизнеописание Василия Розанова. Изд. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. 1056 с.
- Фатеев В.А. М. Н. Катков и Н. Н. Страхов. История отношений двух непохожих мыслителей // Русско-Византийский вестник. 2019. № 1 (2). С. 177-203.
- Фатеев В.А.Н.Н. Страхов и В.С. Соловьев: к истории полемики // Н.Н. Страхов в диалогах с современниками. Философия как культура понимания. СПб.: Але-тейя, 2010. С. 153-173.
- Фатеев В.А. Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2021. 652 с.
- Фатеев В.А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.: Кострома, 2002. 640 с.
- Фатеев В.А. Утраченная книга о богословии и философии Ю.Ф. Самарина протоиерея Феодора Андреева // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 204-230.