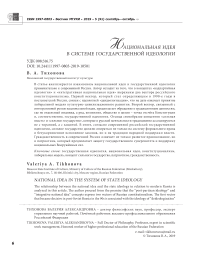Национальная идея в системе государственной идеологии
Автор: Тихонова Валерия Александровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется взаимосвязь национальной идеи и государственной идеологии применительно к современной России. Автор исходит из того, что в концептах «надпартийная идеология» и «интегративная национальная идея» выражены два вектора российского конституционализма. Первый вектор, который стал определяющим в 1990-е годы в постсоветской России, связан с идеологией «деидеологизации», что на деле означает принятие либеральной модели культурно-цивилизационного развития. Второй вектор, связанный с интегративной ролью национальной идеи, предполагает обращение к традиционным ценностям, где не отдельный индивид, а род, коллектив, общество в целом - точка отсчёта Конституции и, соответственно, государственной идеологии. Отсюда своеобразие концептов «сильная власть» и «сильное государство», которые в русской ментальности традиционно ассоциируются не с тиранией, а с защитой. В итоге, согласно современной российской государственной идеологии, сильное государство должно опираться не только на систему формального права и безукоризненное исполнение законов, но и на традиции народной поддержки власти. Гражданственность в современной России означает не только развитое правосознание, но и патриотизм, который предполагает защиту государственного суверенитета и поддержку национальных Вооружённых сил.
Государственная идеология, национальная идея, конституционализм, либеральная модель, концепт сильного государства, патриотизм, гражданственность
Короткий адрес: https://sciup.org/144161321
IDR: 144161321 | УДК: 008:316.75 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10501
Текст научной статьи Национальная идея в системе государственной идеологии
Сегодня в России в очередной раз идут дискуссии о направлении её культурно-исторического развития, о той культурно-цивилизационной модели, которая наиболее адекватна для достижения благополучия в будущем. В центре этих споров оказывается проблематика политической культуры, которая связана не только с формой государственности, но и с традициями, историческим типом ментальности – всем тем, что уже более двух столетий в нашей стране сопрягается с понятием «национальная идея». Проблематика политической культуры и государственной идеологии оказывается сегодня на границе интересов правоведов, с одной стороны, и историков и культурологов – с другой. И в этом выражается своеобразие исторической судьбы России, которая в наши дни, как и в прошлом, находится в ситуации культурно-цивилизационного «пограничья».
Ныне, как и в начале 1990-х, актуальны вопросы, нужна ли России государственная идеология и каково в таком случае её сущностное содержание. В значительной степени это связано с тем, что в Конституции Российской Федерации, согласно положениям ч. 2 ст. 3, указано, что «никакая идеоло- гия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [7, с. 13]. Но означает ли это тотальную деидеологизацию государственной жизни, а заодно и всей культуры? Учитывая критику этого пункта Конституции, Председатель Конституционного суда России В. Д. Зорькин разъясняет, что «данный конституционно-правовой декрет относится ко всем партийным идеологиям, но никак не к конституционализму» [3, с. 13], и при этом отмечает, что в современной России актуально именно «утверждение конституционализма как общегосударственной, надпартийной идеологии и интегративной национальной идеи» [3, с. 13].
В данном случае акцент сделан не на политико-правовой стороне конституционализма, связанной с верховенством правового закона и способами его реализации, а на его историческом содержании. Мы также сосредоточимся на философско-культурологическом аспекте этой проблемы.
Что есть конституционализм как «надпартийная идеология»? Ведь исторически конституционализм утверждал себя в буржуазных революциях через идеи гражданских прав и свобод, свободы частной соб- ственности в том числе. В содержательном плане под конституционализмом чаще всего имеют в виду гарантию Конституцией прав гражданина. По-другому это называют идеологией либерализма, которая с момента своего победного шествия в XVII–XVIII веках уже продемонстрировала свой достаточно противоречивый характер. История ХХ века ещё раз показала, что оптимизм по поводу либерального проекта цивилизации и культуры не абсолютен. В наши дни в рамках либерального проекта свобода и равенство часто оборачиваются «диктатом толерантности».
Именно потому, что конституционализм в социально-культурном смысле предполагает вполне определённое либеральное видение устройства государства, его целей и ценностей, в оппозиции к подобной трактовке конституционализма в разное время были разные силы. Наиболее остро этот вопрос встал после крушения колониальной системы в середине ХХ века, когда в большинстве освободившихся колоний не получила поддержки та модель конституционализма, которая господствовала в метрополиях.
И сегодня неоднозначность понимания конституционализма просматривается в обсуждении проблемы государственной идеологии применительно к постсоветской России. Ведь там, где В. Д. Зорькин характеризует конституционализм как «интегративную национальную идею», речь уже идёт о таком подходе к конституционализму, который связан с обязательным присутствием в общегосударственной идеологии всего ценного, что сохранилось в национальной традиции и должно быть гарантировано современной правовой системой. Таким образом, на наш взгляд, в концептах «надпартийная идеология» и «интегративная национальная идея» выражены два вектора российского конституционализма. Первый вектор, который стал определяющим в 1990-е годы в постсоветской России, связан с идеологией «деидеологизации», на деле означающей либеральную модель культурно-цивилизационного развития. Второй вектор, который связан с интегративной ролью национальной идеи, предполагает обращение к традиционным ценностям, где не отдельный индивид, а род, коллектив, общество в целом – точка отсчёта Конституции и, соответственно, государственной идеологии. Каким же образом и в каких содержательных моментах национальная идея интегрируется в современную государственную идеологию?
Уже само понятие национальной идеи предполагает существование тех культурно-историческими основ, которые определяют самосознание народа, целостность его «внутренней» духовной среды и составляют особенности менталитета нации. И то государство будет пользоваться поддержкой народа, стратегический курс которого, цели и их реализация адекватны основополагающим принципам национальной идеи, её морально-этической основе, чертам национального характера. В связи с этим становится очевидным, что только в этом контексте идеология будет служить консолидации общества и народ будет считать естественным долг по защите этого государства. Иначе говоря, национальная идея – это консолидирующая духовная сила, способствующая гармонизации интересов народа и государства.
Следует подчеркнуть, что одной из причин актуализации проблемы интегрированности национальной идеи в государственную идеологию являются «вызовы» современного этапа глобализации, характеризующегося трансформацией принципов культурного взаимодействия, что вызывает возрастающую потребность защиты национальных культур, многообразия их идейных приоритетов. Как отмечает В. Д. Зорькин, «современный мир находится сейчас в точке бифуркации, после которой развитие человечества может пойти по самым разным, в том числе и негативным сценариям» [3, с. 5]. В связи с этим он пишет, что «предстоящий человечеству экзистенциональный выбор пути на обозримую перспективу в немалой степени зависит от того, какая идея справедливости будет взята в качестве главного мировоззренческого ориентира» [3, с. 5]. Причина указанных сдвигов – столкновение различных мировоззренческих ориентиров субъектов мировой глобальной системы вследствие «опасной тенденции к мировоззренческой однополярности в трактовке справедливости», «навязывании всему миру (в том числе и посредством современных информационных технологий) односторонних представлений о справедливости, ориентированных на западные моральные ценности и отвечающих интересам наиболее влиятельных акторов системы глобальных отношений» [3, с. 5].
Основаниями национальной идеи русского народа как государствообразующего в многонациональной России всегда были коллективизм, патриотизм, социальная справедливость. У этой проблемы, однако, есть ещё один культурно-исторический аспект. Означает ли коллективизм соборность, а патриотизм – державность? Здесь перед нами возникает проблема трансформации национальной идеи в процессе культурного развития страны, диалектики традиции и новации применительно к национальной идее и, прежде всего, государственности, учитывая, что концепт государственности определяет трактовку государства в качестве основного творца российской истории.
Н. М. Карамзин подчёркивал, что история должна воспитывать гражданские чувства, а через знакомство с прошлым опытом, культурными традициями русского народа формировать его нравственные ценности. «Читая Карамзина,–пишет профессор О. А. Жукова,–мы можем понять нашу историю как живую часть духовного опыта нации, восстанавливая тем самым историческое сознание в современном российском обществе. “История государства Российского” Николая Михайловича Карамзина сможет взять на себя роль культурного предания, вокруг которого должен выстраиваться общественный договор – согласия нации по поводу настоящего, прошлого и будущего России. Тогда работа по осмыслению отечественной истории, начатая Карамзиным, позволит прошлому стать живой частью культурного опыта нации» [2, с. 115]. Но каким именно образом опыт исторического прошлого формирует духовные предпочтения современного россиянина в условиях активизации споров об идее «сильного государства» в контексте современной государственной идеологии?
Философскую основу разногласий относительно идеи сильной государственности составляют различия русской и западной традиций в определении приоритета личности и общества. По мнению В. Л. Иноземцева, «в отличие от Запада, где предполагалось, что для того, чтобы любить свою страну, страна должна располагать к этому, в России смысл существования государства никогда не подвергался сомнению» [7, с. 64]. Несмотря на то, что сам учёный не разделяет подобной точки зрения и склоняется к сложившимся на Западе либеральным трактовкам относительно приоритета личного перед общественным, он признаёт особый статус государства и государственности в качестве отличительной чер- ты российской идентичности, заявляя, что «российская идентичность определяется и, возможно, наиболее фундаментальным об-разом,–значением в жизни общества некоего феномена, который в России именуется государством» [7, с. 55].
Понятно, что В. Л. Иноземцев главной мишенью критики в книге «Несовременная страна Россия в мире ХХI века» избрал политику суверенности Российского государства, а значит, консолидации общества на фоне отказа от практики перестроечных 1990-х годов. Демократию, в понимании В. Л. Иноземцева, можно построить лишь по западным рецептам, что и составляет единственную возможность приобщения России к «современному» миру. Соответственно, «несовременность» России выражается в особой роли государства, которое выглядит «как обязательное условие существования нации и потому не предполагает к себе критического отношения» [7, с. 75]. Но что есть «сильное государство» и «сильная власть»? Является ли их атрибутом авторитаризм, на что недвусмысленно указывает В. Л. Иноземцев? В этих вопросах нельзя руководствоваться эмоциональными суждениями и личностными пристрастиями / антипатиями, а научный анализ этих вопросов не возможен без историзма, то есть обращения к традициям осмысления этой проблемы не только на Западе, но и в отечественной общественно-философской мысли.
Целесообразно в связи с этим обратиться к духовному наследию отечественной общественной мысли, в частности, к оценке роли «сильного государства», отражённой в «русской идее». Если у сторонников либеральных взглядов «сильное государство» ассоциируется с диктатом, идущим от органов власти, и ограничением прав личности, то русские мыслители Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. С. Соловьёв, Г. П. Федотов, творчество которых во многом было посвящено «русской идее», делали акцент не на диктате, а на консолидации, а именно – консолидации народа вокруг российской государственности. А последнее они связывали с судьбой русского народа. Если в Европе государства возникали как следствие формирования наций, то в русской истории именно создание государства стало основой формирования единой нации. Н. А. Бердяев, разъясняя смысл русской идеи, связывает её с исторически сложившейся ментальностью русского народа, у которого протестные выступления, то есть восстания и бунты, не носили антигосударственного характера, а напротив – их основу составляло стремление восстановить государство как «защитника правды», которое силой своего могущества и влияния обеспечило бы надежды на справедливость [1, с. 15]. В сознании народа «сильное государство» и «сильная власть» означали не ставку на насилие и страх как залог «порядка», а гарантию справедливости и защиты от тирании. Таким образом, в современной государственной идеологии понятие «сильная власть» основывается не только на праве и безукоризненном исполнении законов, но и на традициях народной поддержки власти.
В этом контексте интересна трактовка государственности и демократии известного русского философа И. А. Ильина, который определяет демократию как самобытный организм со своими особенностями формирования и самобытными духовно-нравственными ценностям. «По-этому,–пишет он,–нельзя создать повсеместно пригодных социальных идеалов и универсальных программ для всех народов» [6, с. 349]. При этом И. А. Ильин, делая акцент на солидарности как объединяющей государство духовной ценности, допускает возможность демократии лишь там, где люди готовы идти на добровольные жертвы во имя народа и национальной государственности. Отмечая различия между Россией и Западом, И. А. Ильин пишет: «Россия имеет свои духовно-исторические дары и призвана творить свою особую духовную культуру» [4, с. 464]. Подобные мысли неприемлемы для современных «непримиримых критиков» прошлого и настоящего нашей страны, знающей многочисленные примеры мужества, жертвенности народа во благо государства, традиционно ассоциируемого с понятием Родины.
В свете предназначения государства организовать и защитить Родину как на основе «права», так и «справедливости» И. А. Ильин специально обосновывает необходимость создания армии и флота, что, в свою очередь, как он пишет, воздействует «на преданное и верное правосознание своих граждан» [5, с. 486]. Такие идеи сегодня особенно актуальны, учитывая накал критики со стороны противников нынешнего курса российского государства на укрепление суверенитета и оборонной мощи страны.
Интересно, что И. А. Ильин не связывал факт существования «сильного государства» с угрозой свободы личности. Наоборот, в этом, как он сам признавал, проявлялась диалектическая взаимосвязь двух, на первый взгляд, противоположных идей – свободы и государства. Согласно И. А. Ильину, «необходимо главное – чтобы государство жило в душе гражданина и чтобы гражданин жил интересами и целями своего государства» [5, с. 484].
Либеральная модель культурно-цивилизационного развития вырастает из частного интереса отдельного индивида, который признаёт общие интересы лишь средством защиты своих же индивидуальных интересов. Западному индивидуализму русские мыслители уже в XIX веке противопоставляли общий интерес в душе человека, который преобладает в ней над частным, и именовали это соборностью. «Сущность государства,–писал по этому поводу И. А. Ильин,–состоит в том, что все его граждане имеют и признают – помимо своих различных и частных интересов – и единую цель, а именно общий интерес и общую цель: ибо государство есть некая духовная община» [5, с. 488–489]. Именно духовная общность способствует осознанию гражданином обязанностей перед государством и ответственности за его судьбу, принятию «интереса государства так, как он принимает свой собственный» [5, с. 489]. Патриотизм И. А. Ильин связывает прежде всего с проявлением «духовной солидарности» и признанием её со стороны граждан «не только умом, но и поддерживающих её силой патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками» [5, с. 485]. Весь исторический путь России подтверждает, что патриотизм – глубинный смысл национальной идеи и что «у нас нет никакой и не может быть никакой объединяющей идеи кроме патриотизма» [10]. Выражая благодарность гражданам страны, не допустившим её распада и утраты независимости в 1990-е годы, Президент России В. В. Путин особо обратил внимание на то, что «угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своём люди её чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты» [9].
Несомненно, что в современной ситуации обостряющихся противоречий цивилизационного развития от российского государства требуются особые меры по консолидации гражданского общества на основе его эффективного взаимодействия с государственными институтами. И в таком историческом контексте патриотизм предполагает безусловную поддержку народом своих Вооружённых сил. В этом направлении сосредоточены главные силы либеральной пропаганды, идеологически подрывающей веру в нашу страну, которая якобы составляет угрозу для всего мира и демократии. Один из центральных пунктов государственной идеологии и национальной идеи заключается именно в том, что «безопасность страны зависит в первую очередь от того, насколько сильна её армия и насколько она в состоянии защитить свою страну. А ещё – от уверенности граждан в своей армии» [12]. Самосохранение России всегда базировалось на этом духовном основании. Здесь же лежат предпосылки решения задач по построению «сильного» социального государства. Таким образом, очевидна необходимость следования принципу объективности в защите исторической правды, в изучении культурно-исторических особенностей формирования национальной идеи и государственной идеологии. И это при том, что форма современной российской государ- ственности продолжает оставаться дискуссионной проблемой в свете признания / отрицания государственной идеологии, которая, по словам В. Д. Зорькина, «отвечала бы ожиданиям российского общества и его представлениям о справедливости, а также тому новому месту в мире, на которое Россия сейчас претендует» [3, с. 12]. Обращение к историческому опыту и культурным традициям различных народов свидетельствует, что многие цивилизации исчезали из-за кардинальных изменений их культурных, духовно-нравственных основ. Что же касается России, то различные проекты её развития могли реализовываться только тогда и до тех пор, пока они коррелировались с ценностными принципами национальной идеи, основополагающими чертами национальными характера [11, с. 19–20].
В отличие от пессимистических предсказаний и нелестных оценок происходящих в России перемен можно констатировать, что цели и задачи стратегии её развития, поиски путей преодоления сложных проблем в политической и социально-экономической сферах, в международных отношениях могут и будут успешно реализовываться при ориентации на «духовную общность» государства и его граждан, на культурно-исторические традиции народа, отвечающие патриотическим основам национальной идеи.
Список литературы Национальная идея в системе государственной идеологии
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / АН СССР, Научный совет по проблемам культуры. Репринтное воспроизведение. Москва: Наука, 1990. 222 с.
- Жукова О. А. Читая Карамзина: философские вопросы российской истории // Вопросы философии. 2016. № 12. С. 111-116.
- Зорькин В. Д. Справедливость - императив цивилизации права // Вопросы философии. 2019. № 1. С. 5-14.
- Ильин И. А. О русской идее // Возвращение. Минск: Белорусский экзархат, 2008. 480 с.
- Ильин И. А. Путь духовного обновления // Избранное / сост., авт. коммент.: Т. А. Филиппова, П. Н. Баратов; авт. вступ. ст. Т. А. Филиппова; Институт общественной мысли. Москва: РОССПЭН, 2010.