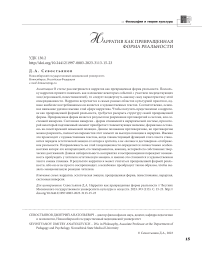Нарратив как превращенная форма реальности
Автор: Севостьянов Д.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия и теория культуры
Статья в выпуске: 3 (113), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается нарратив как превращенная форма реальности. Поскольку нарратив принято понимать как изложение некоторых событий с участием посредствующих лиц (персонажей, повествователей), то следует подвергнуть анализу саму характеристику этой опосредованности. Нарратив встречается в самых разных областях культурной практики, однако наиболее востребованным он является в художественных текстах. Соответственно, основное внимание уделено именно этой сфере нарратива. Чтобы получить представление о нарративе как превращенной формой реальности, требуется раскрыть структуру самой превращенной формы. Превращенная форма является результатом разрешения противоречий в системе, или системной инверсии. Системная инверсия форма отношений в иерархической системе, при которой некоторый подчиненный элемент приобретает главенствующее значение, формально оставаясь на своей прежней невысокой позиции. Данное положение противоречиво, но противоречие можно разрешить, полностью переместив этот элемент на высшую позицию в иерархии. Именно это происходит с художественным текстом, когда главенствующей функцией этого текста становится передача эстетической эмоции от автора к зрителю, а не «полное и достоверное» отображение реальности. Направленность же этой тенденциозности определяется личностными особенностями автора: его апперцепцией, его темпераментом, наконец, историей его собственных творческих достижений. Данная избирательность восприятия и воспроизведения порождает возможность пробуждать у читателя эстетическую эмоцию, и именно это становится в художественном тексте самым главным. В результате нарратив и может считаться превращенной формой реальности, ибо он ее не просто воспроизводит, а неизбежно преобразует таким образом, чтобы вызвать эмоциональную реакцию читателя.
Нарратив, эстетическая эмоция, превращенная форма
Короткий адрес: https://sciup.org/144162800
IDR: 144162800 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-3113-15-23
Текст научной статьи Нарратив как превращенная форма реальности
В настоящее время одним из весьма востребованных объектов философского исследования стало такое явление, как нарратив. В структуре постмодернистской реальности, в которой ранее созданное, накопленное и сохраненное культурное наследие приобрело такие масштабы, что «исходная» реальность просто меркнет на этом фоне, а аллюзии к культурному контенту приобретают самодовлеющее значение, познание структуры нарратива давно стало насущной необходимостью.
Термин «нарратив» является иноязычным, заимствованным; в буквальном переводе это слово, как известно, означает «повествование». Однако, как и любой заимствованный термин, имеющий в русском языке буквальное соответ- ствие, это слово приобретает несколько иной смысловой оттенок. Если «повествование» может трактоваться как процесс, то «нарратив» рассматривается как готовый результат этого процесса. Встречается и такое толкование слова «нарратив», как «сочинительство», «выдумка» и даже просто как «ложь».
Существуют и другие определения нарратива. Так, Т. Гомза называет нарративом «сообщение о каком-либо жизненном событии, затруднении, намерении, представленное в виде истории, рассказанной в соответствии с определенными правилами», причем формы нарратива изменяются под влиянием требований ситуации, в которой они рассказываются [4, с. 54]. На эту особенность нарратива далее предстоит обратить внимание.
Нарративность в художественных текстах отделяется от дескриптивности (описа-тельности) [6, с. 227]. Сугубо описательный подход пригоден для текстуального изложения наблюдаемых положений, стационарных состояний, но не событий; он пригоден для отображения статики, а не динамики. Реальность же динамична, она текуча, как всякая жизнь. Событие, вообще говоря, и составляет переход между стационарными состояниями [10, с. 23]. Необходимость отображения такого перехода, собственно, порождает потребность в нарративе.
Нарратив рассматривается как стратегия текстообразования и текстовосприятия [3, с. 164]. Нарративность трактуется как специфическая стратегия текстообразующего способа представления мира или фрагмента мира в виде сюжетно-повествовательных высказываний, в основе которых лежит некая история (фабула, интрига), преломленная сквозь призму одной определенной точки зрения (или нескольких точек зрения) [2, с. 65]. К содержанию данного определения нам еще предстоит обратиться в дальнейшем.
Нарратив встречается не только в художественной литературе. Нарративом наполнена историография. Нарративом живет политическая аналитика и пропаганда. Как отмечают Н. В. Евстигнеева и О. А. Оберемко, большое количество эмпирических данных в социальных науках имеет нарративную форму: тексты интервью, дневники, литературные произведения, рассказы пациентов на психотерапевтических сеансах, показания свидетелей, некрологи, рекламные тексты, новости на телевидении, тексты песен, анекдоты, любовные письма и т. д. [5, с. 95]. Даже в академической лекции находится место для нарратива [4]. При всем при этом, однако, наиболее распространенной реализацией нарратива был и остается именно художественный текст.
Функции литературного текста
Литературный текст, как и любое другое произведение искусства, несет в себе множество функций. Обособить все эти функции друг от друга непросто, ибо они взаимодействуют между собой и часто проникают одна в другую. Среди таких функций может быть названа информационная функция (сохранение некоторой информации за пределами человеческой головы). Близко к ней стоит коммуникативная функция (поскольку текст адресован читателю, а автор посредством текста вступает с читателем в одностороннее общение – здесь проявляются социальнопсихологические и интенциональные факторы нарратива, то есть мотивы и цели продуцирования нарратива) [1, с. 40]. Достойны упоминания и дидактическая, и воспитательная функция (так как данный текст может служить учебным материалом и средством воспитательного воздействия). Особого внимания заслуживает миметическая функция (считается, что автор литературного текста обладает способностью воспроизводить действительную реальность, подражая ей, и создавать новую реальность, если он подражает лишь образам, сконструированным собственным воображением). Кроме того, у текста может быть выявлена и мотивационная функция, так как текст по прочтении в принципе способен побуждать к определенным действиям. Выделяется у литературного текста эсхатологическая функция (поскольку этот текст может, в известном смысле, обессмертить своего автора, который в противном случае закончил бы жизнь в безвестности), и даже сакральная функция (которой обладают, в частности, священные тексты). Все эти функции совокупно составляют иерархическую систему, которая меняет свои характеристики в зависимости от эпохи и ее культурного контекста. Некоторые функции располагались прежде на главенствующей позиции, но в современном мире уступили первенство другим.
Среди этого множества функций в настоящее время одно из главнейших мест занимает функция эстетическая (она же эмоциональная), которая заключается в передаче эмоциональной информации, или, если угодно, эмоционального посыла от автора к читате- лю. В результате исполнения этой функции, очевидно, и у читателя данного текста может возникнуть (и возникает) определенная эстетическая эмоция. Если в прежние времена данная функция пребывала на подчиненных ролях, то теперь она, как уже сказано, находится среди главенствующих.
Каналы передачи эмоциональной информации
Как и любое художественное произведение (не только литературное), художественный текст реализует эмоциональную функцию посредством как минимум двух отдельных информационных каналов. Один из них может быть назван неспецифическим (то есть присущим всем без исключения видам искусств, обладающим способностью что-либо изображать), другой же, специфический, относится именно к данному виду искусства (а раз здесь речь идет о художественном тексте, то данный канал целиком принадлежит художественной литературе, или, выражаясь более архаично, изящной словесности).
Вышеупомянутый неспецифический канал передает информацию посредством фабулы данного произведения. Фабула присуща решительно любому из изобразительных искусств. Она представлена, конечно же, в литературе, а кроме того, и в рисунке, и в живописи, и в скульптуре, и в сценическом искусстве, и в кинематографе – вообще всюду, где изображается нечто или кто-либо, какие-либо объекты или субъекты, явления, события или действия. Применительно к литературной фабуле имеются устойчивые правила размещения нарративной информации: от завязки действия к некоторому главному событию, далее к кульминации повествования и, наконец, к развязке. Фабула выражается в вербальной форме (или, во всяком случае, всегда может быть так выражена); при помощи слов мы вполне можем рассказать, что же именно было изображено в том или ином художественном произведении, что там показано, о чем там повествуется. Фабула может быть изложена на любом языке (и может быть переведена на любой язык) без заметного ущерба для смысла – насколько вообще это возможно при переводе с одного языка на другой. Фабула допускает синонимию в пределах одного языка, она может быть изложена теми или другими словами, в краткой или в более пространной форме.
Способна ли фабула литературного произведения (или любого другого художественного произведения) вызывать эмоцию у читателя? Безусловно; но только это ее воздействие реализуется исключительно в опосредованной форме. При восприятии фабулы читателем (или слушателем, если художественный текст излагается вслух) происходит, вообще говоря, столкновение двух ситуаций: той, что изложена в произведении, и той, в которой пребывает читатель. Восприятие фабулы читателем, его эмоциональная реакция на эту фабулу в огромной мере зависит от культурной базы, на которой происходило воспитание этого субъекта, осуществлялась его социализация. Поэтому читатели, принадлежащие к разным национальным культурам (или к разным социальным слоям и субкультурам в пределах одной национальной культуры) могут показывать совершенно разные эмоциональные реакции на одну и ту же фабулу. Мало того – разную эстетическую эмоцию на одну и ту же фабулу могут выдать люди с различающимся набором прижизненных впечатлений, с разным персональным жизненным опытом, с разной апперцепцией, с разным отношением к реальности «здесь и теперь». Все это и описывается определением «личная ситуация субъекта».
Другой канал для передачи эмоциональной информации, как уже указывалось, специфический, присущий конкретному виду искусства (в данном случае – изящной словесности). Таким каналом выступает лексикон писателя, именно художественное слово. Здесь, как и в случае с фабулой, мы имеем дело с вербальным воздействием. Но разница огромна. Эти слова – слова писателя – не могут быть переведены на какой-либо другой язык с сохранением характера их эмоционального воздействия. Их нельзя даже пересказать. Они не терпят никакой синонимии; они должны быть именно такими, как они есть, а не «примерно такими же» по смыслу, что применительно к фабуле, как говорилось выше, вполне допускается. В пересказе или в переводе сохраняется фабула, художественное же слово утрачивается или непоправимо искажается. Качественный перевод, обладающий несомненными художественными достоинствами, конечно, возможен, но в нем мы имеем дело уже с художественным словом переводчика, а не автора.
Далее, художественное слово воздействует на человека непосредственно, без оглядки на его личную ситуацию, хотя принадлежность к культурной общности, безусловно, имеет значение хотя бы уже потому, что человек, совершенно чуждый данной культурной общности, не в состоянии будет это слово понять и воспринять (ввиду незнания языка). Художественное слово – это не просто определенным образом выстроенный набор означающих (к которому, в общем и в целом, сводится фабула); оно сопровождается целым облаком посторонних смысловых связей и аллюзий, ему присущи аллитерации и иные формы созвучий, которые и сами по себе порождают определенные эмоциональные реакции. Источник этих эмоциональных реакций может быть обусловлен как чисто физиологическим воздействием, так и распространенными ассоциациями. (Так же как, допустим, красный цвет на картине возбуждает, а синий успокаивает – то ли в силу того, что красный цвет ассоциируется с огнем и кровью, а синий – с водой и небом, то ли в силу сугубо частотных физических воздействий; но главное, что такое воздействие действительно есть). «Облил булыжники лунный никель» у В. В. Маяковского – пример такой непосредственно воздействующей аллитерации.
Поскольку литература стоит в ряду других изобразительных искусств, то принято считать, что в ней определенным образом отражается то, что принято называть «ре- альной жизнью» или, точнее сказать, просто «реальностью». Дело в том, что реальность может быть не только «жизненной». Черпая, конечно, из действительных жизненных ситуаций и отношений свою основу, реальность, показанная в литературном произведении, может быть и вымышленной, фантастической, чудесной. В «Илиаде» или «Одиссее» боги являлись на землю и оказывали покровительство людям, либо же, напротив, обрушивали на них свой божественный гнев. И это тоже, безусловно, реальность, но реальность фантастическая, граничащая с сакральным, горним миром (а порой и вынуждающая читателя эту грань переступать). «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла или «Удивительный волшебник страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума – тоже самостоятельные варианты реальности, по-своему внутренне непротиворечивой, однако же с «живой» реальностью имеющей не так уж много общего. Автор произведения рассматривает реальность (действительную или фантастическую) чаще всего не собственными глазами; для этой цели служат ему персонажи, силой авторского воображения в эту реальность помещенные. Персонажи выполняют роль опосредующей инстанции, стоящей, с одной стороны, между изображаемой действительностью и автором, а с другой – между изображаемой действительностью и читателем [2, с. 66]. Именно их жизнь и деятельность в этой реальности и составляет содержательное наполнение нарратива. Все это достаточно очевидные вещи, но их необходимо было упомянуть, чтобы перейти к дальнейшему.
Превращенная форма и системная инверсия
В заголовке этой статьи нарратив назван превращенной формой реальности. Осталось разъяснить, почему. Для этого нам придется сделать небольшое отступление и обратиться к анализу сущности превращенных форм, к общей их сути, которая проявляется независимо от того, в какой сфере бытия они обнаруживаются.
Нарратив присутствует во многих описаниях реальности, благодаря которым у людей в массе создается представление о якобы «настоящей», а на самом деле – взятой из этого нарратива реальности. Поэтому имеет смысл обратить внимание на то, каким образом нарратив проявляется не как отражение реальности (что бы под этим отражением ни понималось), а именно как ее превращенная форма .
Понятие превращенной формы было введено в научный оборот К. Марксом [7, с. 481], хотя в последующем данное понятие прорабатывалось многими авторами. Однако достаточно полное представление о данном явлении может дать анализ инверсивных отношений в иерархических системах.
Превращенная форма есть следствие преобразования некоторой иерархически организованной системы, произошедшего в результате разрешения в этой системе назревших внутренних противоречий, которые приобрели характер системных инверсий. Системная инверсия, в свою очередь, представляет собой форму отношений в иерархической системе, при которой некоторый низший, подчиненный элемент в этой иерархии приобретает главенствующее значение, формально оставаясь при этом в своем прежнем, подчиненном статусе. В системе из-за этого растет внутреннее напряжение, которое эту систему способно разрушить. Можно, конечно, просто удалить этот элемент из состава системы; тогда система ценою такой утраты сохранится практически в прежнем своем виде. Другим, благоприятным выходом для такой системы становится и формальное, и фактическое перемещение данного элемента на высшую иерархическую позицию; тогда система как таковая тоже сохранится, но будет подвергнута преобразованию (собственно, превращению ). Именно таким образом система переходит в свою превращенную форму.
Ранее упоминалось о том, что литературный текст несет ряд функций, которые совместно образуют иерархическую систему. Рассмотрим в общих чертах судьбу этой системы. Когда способность создавать лите- ратурные тексты еще только формировалась, эти тексты (что можно видеть на примере эпоса) представляли собой результат практически божественного действия, ибо человек, подобно Богу-Творцу, создавал при этом некоторую реальность. Нетрудно заметить, что и достойным изображения в этом тексте было только божественное. Здесь отражалась, конечно, миметическая функция, но поскольку сотворение реальности было по существу божественным актом, то и человек, создающий этот текст, рассматривался лишь как орудие творящего Бога, как «Божий рупор». Подробное описание этого представления можно встретить, например, в диалоге Платона «Ион» [8]. Таким образом, эмоциональная (эстетическая) функция доставалась не автору художественного текста, а божеству, а миметическая функция соединялась с сакральной. Представление о том, что именно автор как личность является продуцентом передаваемых читателю эмоций, пришло позднее. В конце концов, настал момент, когда эстетическая функция художественного текста вышла-таки на первый план, и художественный текст превратился тем самым в то, что он есть теперь (а нарратив, представленный в этом тексте, стал превращенной формой реальности).
Представим себе (хотя это нелегко, но все же) писателя-реалиста, максимально в этом отношении добросовестного, вознамерившегося со всей мыслимой достоверностью отображать «жизнь в формах самой жизни», показывать в своих произведениях «жизнь, как она есть». И вот он взялся за дело, привлекая к этому опять-таки максимально близко к реальности изображенных персонажей. Каковы будут его реальные, объективные успехи на данной стезе? Вполне очевидно, что данный автор при этом столкнется с очевидными ограничениями. Он не сможет воссоздать в своих произведениях «всю» картину реальности просто потому, что и сам не в состоянии воспринимать ее во всей полноте. (Не будем уже говорить о том, что далеко не все авторы художественных текстов стремятся быть именно правдивыми; в реально- сти это далеко не так, иначе нарратив не приравнивали бы во многих случаях ко лжи). Но и стремления быть правдивым недостаточно. Наше восприятие выборочно; известно, что на наш мозг ежесекундно обрушивается огромное количество информации, которую мы не в силах «переварить». По этой причине в нервной системе человека постоянно действуют особые фильтры, отбраковывающие лишнюю, невостребованную информацию, дабы избежать перегрузки. Мы воспринимаем не всю реальность, а лишь некоторые аспекты реальности. Таким образом, уже некоторые механизмы нашего восприятия порождают определенную его тенденциозность. Данная тенденциозность обусловлена как общими для всех механизмами восприятия, так и индивидуальными его особенностями, связанными, в частности, с характером процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе (попросту говоря – с темпераментом). Помимо этого, при восприятии картины мира играет важнейшую роль сенсорный опыт данного субъекта, накопленные им в памяти картины пережитого, с которыми он непременно сопоставляет новые впечатления, его апперцепция.
Далее, при воссоздании картины реальности в произведении (при самом написании текста) наступает второй этап проявления тенденциозности, поскольку и здесь обязательно играют свою роль и темперамент, и апперцепция автора (в структуре которой непременно участвует отраженный и накопленный опыт уже созданного ранее). Итак, в нарративе, созданном данным писателем, от «настоящей» реальности остается не так уж много. Но если автор, благодаря редкостному сочетанию таланта, мотивации и элементарного везения, смог создать в своем произведении некоторый типический образ, вбирающий в себя наиболее существенные черты реальных людей, событий и отношений, то тем самым он получает шанс, что называется, обессмертить себя. Так это случилось, например, в свое время с Мигелем Сервантесом, которого прославил именно «Дон Кихот»
[11, с. 282]; не будь этого произведения, все другие работы данного автора были бы давно забыты, а сам он был бы известен теперь, по-видимому, только специалистам.
От индивидуальных характеристик апперцепции и темперамента зависит содержательное наполнение воссозданной реальности в нарративе. Однако и само ее воссоздание сталкивается с весьма существенным ограничением, поскольку создать вторую реальность, совершенно воспроизводящую (копирующую) первую, никому не под силу. Художнику или писателю для этого пришлось бы приобрести возможности Бога-Творца, каковых у него в действительности, по-видимому, нет. Поэтому он создает и «обживает» силами своих персонажей парциальную, выборочную, или, как уже говорилось, тенденциозную реальность. Направленность же этой тенденциозности зависит, естественно, от него самого. Даже и при создании вполне фантастической картины мира художник не в состоянии «освоить» и показать ее полностью; он намечает лишь кроки этой реальности, формирует ее внутреннюю логику, отличающуюся в чем-то существенном от привычной нам; однако никогда не делает (и не может делать) этого исчерпывающим образом. Поэтому и при создании вымышленных «миров» всякий автор вольно или невольно оставляет простор для дальнейшего развития описаний данного мира, либо в дальнейших собственных, либо уже в чужих произведениях (всевозможных сиквелах и приквелах и прочих сценарных дополнениях к событиям такого «мира»). Вымышленный мир всякий раз раскрывается, таким образом, лишь в немногих избранных своих аспектах, и то, какие именно аспекты были избраны (и как именно это сделано, а самое главное, какими словами подано), раскрывает тенденциозность автора. Но и при отображении «настоящей» реальности автор художественного текста неизбежно тенденциозен. И проявляется эта тенденциозность в обоих каналах передачи эмоциональной информации от автора к зрителю – и в фабуле, и в лексиконе.
Итак, обратившись к иерархии функций литературного текста, мы можем констатировать, что стремление поставить во главу угла миметическую его функцию сталкивается с вынужденной (и непреодолимой) тенденциозностью при попытках «воспроизвести» реальность. Так бывает в том случае, когда нарратив трактуется как любой повествовательный текст, функция которого – информировать адресата о событиях [5, с. 9]. Наличие противоречия в этом случае обусловлено системной инверсией: эмоциональная функция остается формально подчиненной, но реально главенствует именно она (ибо тенденциозность, как уже сказано, неизбежна). Возникает ситуация, когда проще принять тенденциозность в качестве правила вместо попыток сделать из нее исключение; признать тенденциозность достоинством, а не недостатком, опираться на нее и использовать ее, а не бороться с ней.
И вот нарратив из способа воспроизвести реальность (неважно, вымышленную ли, действительную) превращается в способ воспроизвести эстетическую эмоцию личности автора в сознании зрителя, при посредстве изображенной реальности.
Системная инверсия, таким образом, оказывается разрешена, эстетическая функция выносится на первое место, а нарратив занимает «законный» статус в качестве превращенной формы реальности. Понятно поэтому, почему анализ нарратива непременно включает в себя исследование точки зрения его автора (часто вложенной в уста повествователя или героя или же выраженной в их отображенном поведении) [9, с. 48]. А в литературоведческом дискурсе непременно и широко обсуждается вопрос, какие личные качества автора и какие особенности его биографии породили именно такое содержание некоторого произведения.
Заключение
Итак, нарратив в художественном литературном тексте не только не представляет собой непосредственный слепок с реальных событий, случившихся где бы то ни было, но и не может им стать – ввиду тех естественных ограничений, которые налагает на него, вообще говоря, несовершенная человеческая природа автора. Нарратив передает информацию с неизбежными ограничениями; однако сама природа этих ограничений такова, что в результате осознанного намерения или без него выводит субъективность автора на первый план. И нарратив в итоге становится превращенной формой реальности, в результате чего сама эта субъективность выглядит не как недостаток, не как вынужденная и нежелательная нехватка объективности, а как самоценная особенность восприятия и воспроизведения реальности (действительной или вымышленной, фантастической – неважно), при посредстве чего происходит передача от автора к зрителю эстетической эмоции. Вернее будет сказать, что этим путем передается целый комплекс таких эмоций. При их трансляции, как уже говорилось, используется как прямой, непосредственный путь (через специфический канал передачи эмоциональной информации, при помощи авторского лексикона, художественного слова), так и опосредованный путь – через неспецифический канал передачи информации, через фабулу.
Список литературы Нарратив как превращенная форма реальности
- Алещанова И. В. Нарратив как культурная модель // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. № 1. С. 38-43.
- Андреева В. А. Литературный нарратив: текст и дискурс // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. № 46. С. 62-71.
- Андреева В. А. Литературный нарратив как интердискурс // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 92. С. 163-169.
- Гомза Т. Нарратив в лекции // Высшее образование в России. 2001. № 3. С. 53-58.
- Евстигнеева Н. В., Оберемко О. А. Модели анализа нарратива // Южно-российский журнал социальных наук. 2007. № 4. С. 95-107.
- Мамуркина О. В. Теория нарратива в современном литературоведении // Царскосельские чтения. 2011. № XV. С. 226-230.
- Маркс К. Доход и его источники. Вульгарная политическая экономия // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 26, Ч. III. Москва: Издательство политической литературы, 1964. С. 471-568.
- Платон. Ион // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Москва: Мысль, 1990. С. 372-385.
- Попова Т. И. Нарратив и повествование: соотношение понятий // Вестник Бурятского государственного университета. Язык, литература, культура. 2019. № 2. С. 46-50.
- Потемкин С. Б. Обнаружение событий в нарративе // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 1. С. 22-27.
- Тэн И. Философия искусства. Москва: Республика, 1996. 351 с.