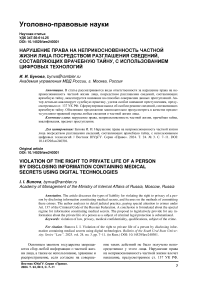Нарушение права на неприкосновенность частной жизни лица посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, с использованием цифровых технологий
Автор: Бунова И.И.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются виды ответственности за нарушение права на неприкосновенность частной жизни лица, посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, акцентируется внимание на способах совершения данных преступлений. Автор детально анализирует судебную практику, уделяя особое внимание преступлениям, предусмотренным ст. 137 УК РФ. Сформулирован вывод об особом режиме сведений, составляющих врачебную тайну. Обосновано предложение законодательно предусмотреть в качестве предмета уголовно-правовой охраны любые сведения о частной жизни лица.
Нарушение права, неприкосновенность частной жизни, врачебная тайна, квалификация, предмет преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/147244274
IDR: 147244274 | УДК: 347.56:614.25 | DOI: 10.14529/law240301
Текст научной статьи Нарушение права на неприкосновенность частной жизни лица посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, с использованием цифровых технологий
Основным законом государства запрещаются сбор любой информации о частной жизни лица, а также ее использование, хранение и распространение, если согласие на соверше- ние таких действий не было получено непосредственно у этого лица. Нарушение права на неприкосновенность частной жизни влечет наказание, предусмотренное ст. 137 УК РФ.
Вопрос о том, является ли врачебная тайна разновидностью личной или нет, активно исследуются в науке [2, с. 403; 3; 4; 8].
Обращая внимание на предмет преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, отметим, что им являются сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну. Вместе с тем на сегодняшний день единый подход к пониманию категорий «право на частную жизнь» и «личная тайна» правовой наукой не выработан.
По справедливому утверждению П. А. Ромашова, «правовая доктрина по-прежнему не пришла к единой позиции относительно тех правомочий, которые подпадают под понятие «неприкосновенность частной жизни», присовокупляя к ним все правомочия, которые закреплены в ст. 23–25 Конституции Российской Федерации» [5, с. 108].
Наличие данного правового пробела негативным образом сказывается не только на правоприменительной практике, но и оказывает воздействие на уголовно-правовое регулирование.
«Несмотря на основополагающий характер, право на неприкосновенность частной жизни не является абсолютным правом, данное право весьма уязвимо, особенно в эпоху цифровых технологий» [5, с. 109]. С учетом этого можно говорить о спорности и субъективизме в научных и правоприменительных подходах к определению частной жизни.
Опираясь на судебную практику, выделим несколько основных способов разглашения врачебной тайны медицинским работником:
-
– посредством собирания, распространения и передачи третьим лицам, информации о частной жизни пациента, которая стала ему доступна в связи с выполнением своих служебных обязанностей и доступом к интеграционным программам сбора и хранения данных пациентов;
-
– посредством собирания и размещения на личных страницах, каналах в социальных сетях цифрового пространства «Интернет» фотографий своих пациентов без получения согласия на совершение таких действий;
-
– посредством распространения и раскрытия частной информации об особенностях лечения пациентов в научных статьях, докладах, исследованиях;
-
– посредством собирания и распространения личной информации о пациентах в об-
- ращениях, заявлениях, направленных в государственные органы власти.
Безусловно, этот перечень способов получения и распространения информации не является исчерпывающим, однако следует отметить, что зачастую доступ к информации о пациентах медицинские работники получают в ходе выполнения своих служебных обязанностей, имея доступ к медицинским информационным системам, являющимся интеграционными платформами сбора и хранения данных пациентов. После собирания информации происходит их передача на безвозмездной или возмездной основе третьим лицам, тем самым нарушается право на неприкосновенность частной жизни лица посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну.
Примером тому может служить обвинительный приговор Арсеньевского городского суда Приморского края по делу № 1-288/2021 от 27 октября 2021 г., в отношении К.Э.С., совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 137 УК РФ. К.Э.С., будучи медицинской сестрой отделения новорожденных Арсентьевской городской больницы, по просьбе коллеги по работе о получении информации о пациенте, находящемся в реанимационном отделении этой же больницы, вошла в интеграционную программу больницы «ДОКА+» по своему логину и паролю, сфотографировала персональную информацию о пациенте и переслала ее коллеге по работе посредством «Ватсап». Далее информация была передана третьему лицу, заинтересованному в состоянии пациента, которому оно ранее нанесло телесные повреждения, повлекшие госпитализацию в реанимационное отделение.
Таким образом, К.Э.С., будучи предупрежденной об уголовной ответственности о неразглашении врачебной тайны, пренебрегла предусмотренными в функционально-должностной инструкции нормами и допустила разглашение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, используя свое служебное положение.
В данном случае можно согласиться с мнением правоведа И. Р. Диваевой, которая утверждает: «Гарантия конфиденциальности позволяет защитить человека от внешнего давления социальной среды…. Право лишь устанавливает пределы неприкосновенности частной жизни человека и, как следствие это- го, пределы допустимого вмешательства в нее» [1, с. 55].
Вместе с тем следует отметить, что судебная практика далеко неоднозначна. Собирание и распространение сведений о частной жизни лица влекут не только уголовную (ст. 137 УК РФ), но и административную ответственность (ст. 13.14 КоАП РФ), гражданско-правовая (ст. 152 ГК РФ), дисциплинарная ответственность (пп. «в» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ). Тем не менее, названные кодексы не предусматривают ответственность непосредственно за нарушение врачебной тайны.
В качестве иллюстративного материала можно привести определение Конституционного Суда РФ 26 марта 2020 г. № 540-О, в котором отмечено, что по результатам проведения доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в действиях врача функциональной диагностики состава преступления (ст. 137 УК РФ).
Врачом медицинской организации и депутатом органа местного самоуправления по совместительству в жалобе, направленной прокурору Косинского района Пермского края, с указанием нарушений, допущенных главным врачом медицинской организации, были приведены сведения о пяти пациентах, обращавшихся в данную медицинскую организацию. Сведения, полученные в программной системе «ПроМед», содержали информацию о персональных данных пациентов, а именно их фамилиях, именах и отчествах, личных номерах телефонов, сведения о лечении и т.п.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела основано на разграничении информации, относящейся к личной тайне потерпевшего, и сведений, составляющих врачебную тайну.
Более того, в определениях Конституционного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 2906-О, от 25 января 2018 г. № 62-О, от 5 декабря 2019 г. № 3272-О, от 26 марта 2020 г. № 540-О акцентировано внимание на том, что «не является существенным нарушением прав и свобод разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, при обращении в органы власти с целью оказания содействия обратившемуся гражданину в реализации его прав и свобод или других лиц». Сущностное содержание данной позиции заключается в том, что информация, поступающая должностному лицу или органу власти из обращений от гражданина, не разглашается, за исключением случаев, связанных с проверкой указанных в обращениях фактов. Данная норма имеет свое отражение в ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Вместе в тем в п. 9 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закреплен принцип соблюдения врачебной тайны, как один из основополагающих принципов охраны здоровья. В ст. 13 указанного закона запрещено распространение (разглашение) таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 13, при этом оснований, наделяющих медицинского работника правом инициативно разглашать такую информацию, пользуясь своим служебным положением, не предусмотрено.
По смыслу буквы закона медицинский работник не обладает правом разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Он может лишь в общих чертах изложить содержание жалобы, не персонифицируя пациентов и не раскрывая их личные данные. По всей видимости, законодатель предусмотрел в случае необходимости возможность подготовки государственными органами уточняющего запроса в порядке, предусмотренном п. 3, 5, 10 ч. 4 ст. 13 вышеуказанного Федерального закона.
Полагаем, что цели личного обращения в органы власти не могут быть достигнуты за счет распространения (разглашения) информации о частной жизни лица без его согласия, поскольку это противоречит ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации ввиду того, что сведения о частной жизни лица составляют личную тайну пациентов. Их распространение необходимо квалифицировать по ст. 137 УК РФ.
Еще одной из актуальных позиций, о которой необходимо сказать, является продвижение медицинских услуг, как правило, частными клиниками и отдельными медицинскими работниками через социальные сети, специально созданные персональные страницы, каналы с размещением своих пациентов «до» и «после» оказания медицинских услуг. Кроме того, нередко пренебрегая средствами кор- рекции в сети отдельных частей лица (тела) пациента, медицинские работники создают условия для идентификации заинтересованной аудиторией пациента, тем самым раскрывают информацию о тех или иных медицинских услугах, которые были оказаны данному лицу.
Такие действия позволяют медицинскому работнику не только осведомить широкий круг лиц о направленности и роде своей деятельности, но и привлечь потенциальных клиентов, которые визуализируют успешные результаты хирургических, косметологических и иных медицинских вмешательств и делают свой осознанный выбор.
Вместе с тем отсутствие согласия пациента на размещение его персональных данных, фотографий или отдельных частей его тела в открытом доступе в сети «Интернет» ведет к нарушению врачебной тайны и привлечению к ответственности в зависимости от общественной опасности совершенного деяния (апелляционное определение Верховного суда Удмурдской Республики от 30 сентября 2013 г.; апелляционное определение Волгоградского областного суда от 7 сентября 2016 г. по делу № 33-12252/20161 и т.п.).
В этой связи нами разделяется мнение авторов, утверждающих, что цифровизация медицинских услуг неизбежна для российского общества, поэтому важно своевременно сформировать у медицинских работников правовые алгоритмы обработки юридически значимых организационных документов, позволяющих использовать цифровые технологии в здравоохранении [6, с. 32].
Полагаем, что правильно выстроенные алгоритмы взаимодействия в связке «пациент – медицинский работник» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации помогут выстроить не только доверительные отношения, которые способствуют достижению благоприятного результата, но и позволят избежать правовых коллизий и судебных тяжб в вопросах нарушения права на неприкосновенность частной жизни лица посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну.
Кроме того, один из значимых аспектов, на который следует обратить внимание, – это повышение правовой грамотности медицинского персонала в части обращения с персональной информацией пациентов, содержащейся в интеграционных программах медицинских организаций. Получение доступа к сведениям о частной жизни лица в связи с выполнением своих служебных обязанностей не должна порождать вседозволенность и небрежность в обращении с ними.
Думается, что формулировка «сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну» необоснованно детализирована, в связи с чем объем сведений, относящийся непосредственно к частной жизни лица, слишком ограничен.
В научных исследованиях авторами обозначалась идея предусмотреть в качестве предмета уголовно-правовой охраны любые сведения о частной жизни. Данное изменение позволит привести содержание ст. 137 УК РФ в соответствие с положениями ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации [7, с. 540].
Поддерживая данную идею, мы считаем целесообразным исключить из диспозиции ст. 137 УК РФ формулировку «…, составляющих его личную или семейную тайну, …». Такой подход способствует решению проблемы, связанной с признанием врачебной тайны предметом преступления и правильной квалификацией совершенных деяний, позволит исключить произвольное толкование объекта и предмета преступного посягательства, избежать правовых коллизий в применении данной нормы.
Более того, при квалификации преступлений по ст. 137 УК РФ необходимо устанавливать не только субъективное отношение потерпевшего к «сведениям о его частной жизни», принимать во внимание их скрытость от посторонних лиц, но и учитывать общественную опасность совершенного деяния, а также последствия, которые может повлечь распространение сведений о частной жизни лица. При раскрытии врачебной тайны нарушается неприкосновенность частной жизни лица, открывается доступ третьих лиц к данным сведениям, что создает условия для совершения иных, более тяжких преступлений.
Список литературы Нарушение права на неприкосновенность частной жизни лица посредством разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, с использованием цифровых технологий
- Диваева И. Р., Ермоленко Т. В. Ответственность медицинских работников за разглашение врачебной тайны // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2021. № 1 (5). С. 50-55. EDN: EFRASF
- Осокин Р. Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против общественной нравственности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 582 с. EDN: TZPPUF
- Павлов А. В. О некоторых проблемах терминологии законодательства о врачебной тайне // Медицинское право. 2019. № 1. С. 17-23. EDN: YSJYYH
- Прокопенко А. Н., Дрога А. А. Некоторые виды профессиональных тайн и основы их правового регулирования // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина. 2010. № 2 (16). С. 21-25. EDN: PKVWDN
- Ромашов П. А. К вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровой век // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. № 1. С. 103-118. EDN: WACZIQ
- Стефанова Н. А., Андронова И. В. Проблемы цифровизации сферы здравоохранения: российский и зарубежный опыт // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2018. Т. 9. № 3. С. 31-35. EDN: JKJVXA
- Стяжкина С. А. Уголовно-правовая охрана частной жизни лица // Вестник Удмуртского университета. Серия "Экономика и право". 2019. Т. 29. № 4. С. 538-544. EDN: SZJMCO
- Цыпина Е. Б. Особенности правового режима врачебной тайны // Информационное право. 2020. № 1. С. 31-35. EDN: XPUFLQ