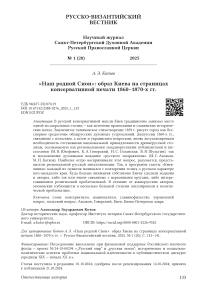«Наш родной слон»: образ Киева на страницах консервативной печати 1860–1870-х гг.
Автор: Котов А.Э.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.
Бесплатный доступ
В русской консервативной мысли Киев традиционно занимал место одной из сакральных столиц - как источник православия и славянских исторических начал. Знаменитое хомяковское стихотворение 1839 г. рисует город как бесспорное средоточие общерусских духовных устремлений. Дискуссии 1860-х гг., связанные с польским, а затем и украинским вопросами, вновь актуализировали необходимость отстаивания национальной принадлежности древнерусской столицы, осознаваемую как региональными заданнорусскими публицистами и писателями (М. В. Юзефович, К. А. Говорский, Н. С. Соханская, В. Я. Шульгин), так и московскими духовными вождями «русского направления» (И. С. Аксаков, М. Н. Катков). Наиболее остро воспринимали этот вопрос, разумеется, представители региональной русской интеллигенции. Так, в программе газеты «Киевлянин» каждый из пунктов начинался с повторения тезиса о русском характере юго-западного края. Куда больше внимания собственно Киеву уделяли издания и авторы, либо так или иначе связанные с церковными кругами, либо интересовавшиеся религиозной проблематикой. В отличие от южнорусских авторов, московские публицисты в несколько большей степени апеллировали к политической проблематике.
Консерватизм, национализм, славянофильство, украинский вопрос, польский вопрос, аксаков, говорский, киев, киево-печерская лавра
Короткий адрес: https://sciup.org/140309230
IDR: 140309230 | УДК: 94(477-25):070.19 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_133
Текст научной статьи «Наш родной слон»: образ Киева на страницах консервативной печати 1860–1870-х гг.
E-mail: ORCID:
В русской консервативной мысли Киев традиционно занимал место одной из сакральных столиц — как источник православия и славянских исторических начал. Знаменитое хомяковское стихотворение 1839 г. рисует город как бесспорное средоточие общерусских духовных устремлений:
-
— «Я оттуда, где струится
Тихий Дон — краса степей».
-
— «Я оттуда, где клубится Беспредельный Енисей!»
-
— «Край мой — теплый брег Евксина!» — «Край мой — брег тех дальних стран, Где одна сплошная льдина Оковала океан».
-
— «Дик и страшен верх Алтая, Вечен блеск его снегов, Там страна моя родная!»
-
— «Мне отчизна — старый Псков».
— «Я от Ладоги холодной».
— «Я синих волн Невы».
— «Я от Камы многоводной».
-
— «Я от матушки Москвы»
Дискуссии 1860-х гг., связанные с польским, а затем и украинским вопросами, вновь актуализировали необходимость отстаивания национальной принадлежности древнерусской столицы, осознаваемую как региональными западнорусскими публицистами и писателями (М. В. Юзефович, К. А. Говорский, Н. С. Соханская, В. Я. Шульгин), так и московскими духовными вождями «русского направления» (И. С. Аксаков, М. Н. Катков).
Наиболее остро воспринимали этот вопрос, разумеется, представители региональной русской интеллигенции. Так, в программе газеты «Киевлянин», ставшей рупором кружка русских националистов-интеллектуалов, каждый из пунктов начинался с повторения тезиса о русском характере юго-западного края. При этом подчеркивалось, что «…приводить новые доказательства того, что уже доказано ясно, как день Божий, значило бы переливать из пустого в порожнее. Редакция не берет на себя этой миссии. Она исходит прямо из аксиомы: „это край русский, русский, русский“, и под углом зрения этой непререкаемой аксиомы будет выказывать свой взгляд на потребности края, на взаимные отношения населяющих его национальностей и на его отношения к единоверной, единокровной и единоязычной ему России, которой матерью слывет искони главный город края — Киев»1. Собственно, задачей «Киевлянина» и была борьба с польскими претензиями на малороссийские земли. При этом акцент газета делала на национальную и социально-экономическую проблематику, защищая местное крестьянское большинство от гнета польской шляхты2.
Куда больше внимания собственно Киеву уделяли издания и авторы, либо так или иначе связанные с церковными кругами, либо интересовавшиеся религиозной проблематикой. Так, в первом же номере «Вестника Юго-западной и Западной России», основанного К. А. Говорским при помощи товарища обер-прокурора
Синода С. Н. Урусова3, была опубликована без подписи статья киевского церковного историка А. Н. Муравьева, представлявшая собой своеобразную литературную фреску — галерею исторических образов. Начиналась она со слов апостола Андрея Первозванного «Видите ли горы сии?», которые, по свидетельству автора, вспоминает «каждый путник, когда внезапно пред ним откроется вся златоверхая святыня киевская на заветных ее высотах». Именно этот риторический вопрос с продолжающим его пророчеством о будущем торжестве православия в этих пока еще диких местах «…и есть та основная черта Киева, которая доселе его делает сердцем всея Руси и к нему влечет из дальних краев всех православных чад ее. Только они одни в состоянии понять и оценить, что такое Киев для русского человека, и здесь, в нашем родном Иерусалиме, находят себе отголосок дальнего, не всегда им доступного на чужбине»4. Переходя далее к крестителям Руси — свв. Ольге и Владимиру, — историк подчеркивал, что последнее «…имя и память чужды тем, кто не носит имени русского; едва, едва, как бы чуждые пришельцы, включены оба наши равноапостольные Владимир и Ольга в святцы западные, хотя для нас были они денницею христианства»5. Помянув князей Бориса и Глеба и первых Киево-Печерских преподобных, Муравьев также прибавлял: «…сия сокровищница мощей в недрах земли, драгоценнее всех сокровищ, сзывающая к себе тысячи богомольцев от Дуная и до Амура, разве она возбуждает малейшее сочувствие нынешних мнимых родичей Киева, на него посягающих как бы по праву местных землевладельцев?»6
Особо подчеркивалась преемственность между киевской и московской митрополиями: «Не поколебался краеугольный камень Св. Софии и тогда, когда уже, казалось, самая кафедра перенесена была на Север, вместе с столицею князей и владык в первопрестольную Москву; киевскими, а не московскими возглашались в соборе Успенском митрополиты всея Руси, три ее церковных столпа, Петр, Алексей, Иона, так записаны они в святцах русских и все три священнодействовали на престоле софийском. Когда же разделилась митрополия на северную и южную, во главе стал опять Киев, несмотря на жительство его владык в пределах литовских; еще теснее сделалась связь его с Царьградом, ибо митрополиты киевские приняли на себе титул экзархов вселенского патриарха и этот период юго-западной нашей Церкви запечатлен мученической кончиною митрополита Макария, которого нетленные мощи почиют в храме Св. Софии, как бы для нового утверждения его кафедры»7.
Наконец, завершался текст панегириком Киево-Печерской лавре: «Она не только пустила бесчисленные ветви во всю Русскую землю, но и в самом Киеве сделалась корнем православия» — в том числе благодаря местному братству и созданному им училищу, «которое пролило столько просвещения духовного на всю Русскую землю и доселе процветает, как старшая Академия наша»8. Вся «жизненная сила» Киева виделась автору в трех «священных местах» — Лавре, Св. Софии и Михайловском монастыре: «Без них останется один лишь торговый город, каких много на Руси, но утратится его церковное значение, а чрез это оскудеет и самый город <…>. Тогда только могут усвоить себе Киев иноверцы, если нарушится жизненная его связь с Россиею, т. е. православие». Но последнего, по убеждению Муравьева, произойти не могло: «Доколе теплится тихая лампада над гробом преподобного Антония в ближайших пещерах, доколе спускается, при торжественных гимнах, чудная икона Успения в царских вратах великой церкви, доколе стоит нерушимая стена Софийская с ликом

Киево-Печерская лавра, конец XIX в.
Богоматери, осеняющей престол, на котором уже восемь веков приносится бескровная жертва православных, — до тех пор не поколеблется древний град Владимира и Ольги, на его заветных горах, благословенных Первозванным Апостолом. „Горы окрест его и Господь окрест людей своих“, по выражению псаломному о Сионе, граде Царя Великого, — а Киев наш родной Сион!»9
Не менее поэтические и так же глубоко проникнутые христианским духом образы использовала для описания города писательница славянофильского круга Н. С. Соханская: «…На верхах гор, другими золотыми верхами, вознесся и соорудил-ся Киев, в своем Днепровском Иордане окрестил славянские племена в православную Русь, и с летописных времен стал он и доднесь устоял почти тысячелетним памятником давней нашей великоняжеской славы, монгольских и польских бедствий и просиял святынею на весь Русский мир. Киев на своей Печерской горе, „оне-бесившийся“, как поет церковная песнь, „идеже светозарные звезды, преподобные отцы, молитвенные лучи к Богу Свету о отечестве своем простирающие“ по ту сторону Днепра, — Киев всем своим лицом, всем сиянием Киево-Печерской лавры и судьбами своей истории обращен сюда, на эту сторону. Он достойно народному величию запечатывает грань отдела южно-русской земли и приурочивает Малороссии святой крещальный Днепр»10.
В отличие от южнорусских авторов, московские публицисты в несколько большей степени апеллировали к политической проблематике. И. С. Аксаков, отвергая на страницах «Дня» (1862) претензии польских «борцов за свободу», так отвечал на вопрос о принадлежности города: «Вопрос ясен и ответ очень прост. В этой русской стороне и русском городе Киеве не может быть и речи о какой-либо другой народности, кроме русской, о каких-либо чужих правах, кроме прав Русской земли и Русского государства: наши законы, права, обязанности, тяготы, отношения к правительству и исторические судьбы со дня воссоединения — общие и единые Руси со всею Киевской,
Подольской и Волынской губерниями. Другой национальности, официально признаваемой, там нет и быть не должно»11.
Отношение к Киеву Иван Сергеевич позднее, уже в 1881 г., предлагал сделать своеобразным тестом на возможность русско-польского примирения: «„Польский ли город Киева или русский? Достояние ли он польской национальности или Русской земли?“ Вот вопрос, по-видимому странный, с русской точки зрения даже забавный, во всяком случае, простой, несложный, который мы уже давно приняли за правило предлагать на первых же порах каждому поляку, удостаивающему нас личным знакомством и политическою беседой»12.
Логика публициста предполагала два варианта реакции на подобный вопрос: «В самом деле, если ваш собеседник польского происхождения способен на поставленный ему вопрос о русском значении Киева не только отвечать отрицательно и признавать его достоянием польским, но даже запнуться , замяться в своем ответе, то всякие дальнейшие речи излишни, толковать более уже не о чем. Если уже на „матерь городов русских“, „колыбель русского государства“, „священную купель русского народа“ поляки в состоянии простирать свои виды, то тут место не рассуждениям, а разве лишь, в лучшем случае, сожалению, именно о таком ненормальном состоянии духовных способностей. <…> Следовательно, все сладкие песни о примирении, об установлении modus vivendi двух народностей и пр. обрываются сразу, на первом же пункте, и пока может оставаться хоть тень сомнения относительно этого пункта, не может быть и речи ни о каком мире. Мало того: всякая речь о мире со стороны русского является — в наиблагоприятнейшем истолковании — тупоумием, а не то как преступлением и изменой, — изменой русскому народу, которого даже из отдаленнейших концов Сибири „язык доводит до Киева“ на поклонение его исторической святыне, который одинаково готов постоять за Киев, как и за Москву. Если же „польский патриот“ будет отказываться и утверждать, что таких дерзких помышлений поляки вовсе и не питают, то пусть потрудится заявить о том всенародно »13.
Значимым Киев был, конечно же, и в контексте украинского вопроса, применительно к которому Аксаков в 1860-х гг. занимал куда более осторожную позицию, осуждая катковское «патриотическое полицействование»14. Приводя на страницах «Дня» «письмо, полученное нами из Киева от одного истого малоросса, ярого врага всякого сепаратизма»15, Иван Сергеевич солидаризировался с автором в необходимости сохранения малороссийской региональной специфики, которую именно «единство Киевской святыни» и должно было предохранить от разрыва политического единства с «общерусской силой»16.
При этом Аксаков видел и обратную сторону медали, связанную преимущественно с экономической проблематикой: «Киев — русский город, но вследствие долговременного его отчуждения от остальной России, и вследствие недостатка внимания с нашей стороны к нашим собственным обязанностям, — он, странно сказать, находится в менее живых сношениях с Россией, например, с Москвою, чем Иркутск или Кяхта. Торговля с издавна проторила себе путь в Иркутск и Кяхту, и в этом отношении выгоды чайной торговли были одним из главных двигателей и принесли нам много пользы! Мы обязаны ей нашею тесною связью с Сибирью. Но торговля Москвы с Киевом не находила для себя таких выгод, которые бы вознаграждали ее за дороговизну, неудобства и трудности сообщения. Конечно, есть и другие причины, но не об них речь. Нет никакого сомнения, будь это пространство в 900 с лишком верст (от Москвы до Киева) перерезано железною дорогою — сношения и общение коренной Руси с Русью, долго носившею тяготу польского управления, до сих пор не освободившеюся из-под польского гнетущего влияния, — стали бы живее, чаще, плодотворнее и стянули бы крепче узел, нас соединяющий. Итак, железную дорогу из Москвы в Киев! Она нам нужна во всех отношениях… Железную дорогу во что бы то ни стало!»17
Еще большее внимание уделялось железнодорожной теме в публицистике М. Н. Каткова, лучше большинства современников умевшего сочетать «идеалистические» аспекты с материальными, прежде всего техническими и экономическими. Его пропаганда в пользу строительства киевской железной дороги — наиболее яркий пример подобного подхода, органично вмещавшего экономическую, историческую и религиозно-нравственную проблематику. Однако обращение к «катковскому» Киеву требует отдельной статьи…
По мере ослабления актуальности польского и (как казалось тогда) украинского вопросов консервативная публицистика все реже сталкивалась с необходимостью отстаивать русский характер Киева. Своеобразным итогом этих дискуссий 1860-х гг. стали вышедшие на страницах новой консервативной газеты «Русский мир» путевые очерки литературного критика А. П. Милюкова — бывшего петрашевца, к началу 1870-х гг. сблизившегося с консервативными кругами. В этих очерках он также увязывал сооружение железной дороги с киевскими святынями, но делал из этого вполне житейские выводы: «Помнится, когда шли толки о железной дороге в Киев, в нашей печати высказывалось, между прочим, что она может рассчитывать на значительные массы поклонников, посещающих киевские святыни. На деле вышло, однако ж, совсем не то. Конечно, кто ездил по монастырям в экипажах, те обратились теперь на железную дорогу. Подобных пилигримов я видел в вагонах первого и второго класса. Но массы бедного люда, который со всех концов России притекает к древним святыням, идут по-прежнему пешком, питаясь той манною, в какой наша земля не отказывала никогда паломникам, откуда бы язык ни доводил их до Киева. Люд этот не может платить за проезд по железной дороге, потому что несет лепты свои на церковь, да если бы и мог, то не захочет ехать, веруя в действительность молитвы только при одном пешеходном путешествии»18.
Касалось это и украинского вопроса: «Впрочем, говорят, что особенности старого украинского быта с каждым годом заметно уступают напору общерусского элемента и в образе жизни, и в костюме, и в языке. Нет сомнения, что с развитием наших общественных начал, при нивелирующем влиянии железных дорог, малороссийская обособленность должна в непродолжительном времени совершенно исчезнуть, и в крае останутся только те своеобразные черты, какие свойственны вообще всякой провинции. А между тем давно ли у нас были господа, мечтавшие о создании какой-то самобытной украинской литературы?!»19
Признавая последнее решительно невозможным, Милюков по-своему воспроизводил распространенные в то время катковские аргументы: «Разве у какого-нибудь народа племенная литература на провинциальном наречии развивалась до самостоятельного значения? Мы видим, напротив, что она нигде не выходила из тесного круга народных песен и сказок. Идеи, присущие всему народу, всегда выражаются на его господствующем языке. Об этом свидетельствует история. Несмотря на то, что неаполитанское наречие совершенно чуждо венецианцу, а римлянин с трудом понимает пиемонтца, в Италии один литературный язык Данта и Петрарки. При всем различии народного говора в Кастилии и Андалузии, у испанцев не выработалось никакой провинциальной литературы, помимо Сервантеса и Кальдерона. Как ни разъединены немецкие гохдейч и платдейч , а в Германии нет

Русский город Киев, улица Безаковская, начало ХХ в.
иного литературного языка, кроме того, на котором писали Шиллер и Гейне. Даже в Англии не только уэльское, но и шотландское наречие исчезли перед общим языком Шекспира и Вальтер Скотта. Никогда талант, возникающий в провинциальной среде, не в состоянии развиться в ней и высказаться на местном наречии. Да это и понятно. Чем шире и многообъемлющее талант, тем ему теснее в узкой провинциальной среде и тем скорее вырывается он из оков местных интересов и провинциального говора. Оставаясь при них, он неизбежно мельчает»20.
Еще одним примером автору виделась Малороссия, почти все многочисленные таланты которой обращались к общерусскому языку: «Один Шевченко остался верен своему природному наречию, но он-то всего яснее и доказывает несостоятельность и невозможность самобытной малороссийской литературы, при несомненно обширном даровании он не мог найти в своей тесной провинциальной среде никаких поэтических мотивов, кроме воспоминаний о давно погибшей гайдаматчине, да жалоб на отжившее ныне крепостное право. Нет сомнения, что теперь попытки поднять местное наречие до значения литературного языка не только ни к чему не поведут, но даже не встретят сочувствия в самой Украйне. Мне говорили, что здесь простой народ начинает уже усваивать великорусские песни и даже стыдиться особенностей своего говора. Я сама был свидетелем, как одна служанка обиделась тем, что ее назвали Одаркой.
-
— Что же в этом обидного? — спросил я
-
— Да ведь мы не на хуторке, отвечала она: я не деревенская»21.
И наконец, добравшись до Киева, Милюков сообщал: «С первого взгляда на Киев видно, что это город вполне русский. Ни в чем так не высказывалась политическая бестактность поляков, как в претензиях их на обладание этим наследием Ольги и Владимира. Сколько я ни всматривался, но не нашел здесь ничего польского: и на табличках домов все русские фамилии, и на сорок православных церквей один католический костел, и везде дорогие русскому народу святыни. Поляки ровно ничего не оставили здесь в память своего владычества. И это не от терпимости, а только по невозможности пустить корни своей народности на этой почве: ведь гнали же они православие на Украйне и обращали Выдубецкий монастырь и даже Софийский собор в унию.
Но русская народность поддерживается здесь не искусственно: церкви постоянно полны пародом, и с утра до ночи по улицам тянутся вереницы богомольцев со всех концов России. Эти-то рассеянные по городу святыни и стекающиеся к ним поклонники, больше, чем крепости и армии, помогли отстоять Киев. Ежели человеку, знакомому с историей, кажутся странны претензии поляков на Вильну или Полоцк, то самый темный простолюдин знает, что Киев искони русский город. Отчуждение его для народной массы более дико, чем отдача Петербурга. И если б у поляков был политический такт, они поняли бы, что один только злейший враг мог внушить им мысль о притязаниях на город, дорогой и кровный для всего русского народа»22.