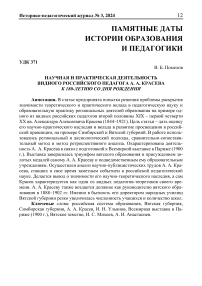Научная и практическая деятельность видного российского педагога А. А. Красева. К 180-летию со дня рождения
Автор: Помелов В.Б.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка решения проблемы раскрытия значимости теоретического и практического вклада в педагогическую науку и образовательную практику региональных деятелей образования на примере одного из видных российских педагогов второй половины XIX - первой четверти XX вв. Александра Алексеевича Красева (1844-1921). Цель статьи - дать оценку его научно-практического наследия и вклада в развитие просвещения в российской провинции, на примере Симбирской и Вятской губерний. В работе использовались региональный и аксиологический подходы, сравнительно-сопоставительный метод и метод ретроспективного анализа. Охарактеризована деятельность А. А. Красева в связи с подготовкой к Всемирной выставке в Париже (1900 г.). Выставка завершилась триумфом вятского образования и присуждением золотых медалей самому А. А. Красеву и подведомственным ему образовательным учреждениям. Осуществлен анализ научно-публицистических трудов А. А. Красева, ставших в свое время заметным событием в российской педагогической науке. Делается вывод о значимости его научно-теоретического наследия, а сам Красев характеризуется как один из видных педагогов-теоретиков своего времени. А. А. Красеву также воздается должное как руководителю вятского образования в 1888-1902 гг. Именно в бытность его директором народных училищ Вятской губернии резко увеличилась численность учащихся и количество школ.
Российская система образования, вятская губерния, симбирская губерния, а. а. красев, и. н. ульянов, всемирная выставка в париже (1900 г.), вятское земство, и. с. михеев, а. и. анастасиев
Короткий адрес: https://sciup.org/140307596
IDR: 140307596 | УДК: 371
Текст научной статьи Научная и практическая деятельность видного российского педагога А. А. Красева. К 180-летию со дня рождения
|
Введение. В современной историко-педагогической литературе проявляется значительный интерес к теоретико-практическому вкладу ученых-педагогов, живших не только в столичных, но также и в губернских городах, и вносивших свой неповторимый вклад в исследование различных проблем педагогической науки [Помелов, 2021, с. 89]. Во второй половине XIX – начале XX вв. существенное значение для развития этой области знания имели труды Александра Алексеевича Красева (1844–1921), ярко проявившего себя |
как талантливый администратор в сфере образования и автор интересных книг на просвещенческую тематику. Несмотря на то, что, хотя он и являлся известным педагогическим деятелем и ученым своего времени, тем не менее его научно-педагогическое наследие не получило до сих пор существенного отражения в исследованиях историков педагогики и образования. Биографические сведения о А. А. Красеве крайне скудные. Предлагаемая статья и ставит своей целью восполнить этот пробел. |
Материалы и методы. В работе над статьей автор использовал аксиологический научный подход, позволяющий выделить в теоретической и практической деятельности изучаемого педагога наиболее важные, позитивные стороны его подвижнических усилий, направленных на развитие педагогической науки и народного образования. Также автором применялись биографический метод исследования и метод работы с научной литературой.
Результаты исследования. А. А. Красев родился 24 февраля 1844 г. в селе Городище Юхновского уезда Смоленской губернии в семье дьякона. Он окончил местную духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1871). Работал преподавателем истории и латинского языка в Казанской духовной семинарии и в городском училище.

А. А. Красев
-
А. А. Красев более всего известен как крупный организатор народного образования. С августа 1878 г. по 1888 г. он работал инспектором народных училищ Карсун-ского уезда Симбирской губернии
под непосредственным руководством директора народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянова. При этом жил он в губернском городе, и часто общался с Ильей Николаевичем Ульяновым. По отзывам людей, близко его знавших, Красев обладал немалым педагогическим и административным талантом, позволявшим ему квалифицированно и продуктивно инспектировать вверенные его попечению школы [Кондаков, 1964, с. 263].

И. Н. Ульянов среди инспекторов народных училищ Симбирской губернии. 1880-е гг.
Сидят (слева направо):
-
В. М. Стржалковский, И. Н. Ульянов, И. В. Ишерский; стоят (слева направо): А. А. Красев, В. И. Фар-маковский, К. М. Аммосов.
Этот период его профессиональной деятельности был, судя по всему, очень важен для становления профессиональных качеств
-
А. А. Красева. Он стремился к накоплению и обобщению не только своего собственного педагогического
опыта, но и к тому, чтобы приобщить к этой работе учителей. Так, он собрал работы учителей в сборник под названием «Школьные наблюдения и заметки», который он пытался издать, но эта попытка не имела успеха, и сборник был размножен в нескольких экземплярах. А. А. Кра-сев сопровождал И. Н. Ульянова в его последней инспекционной поездке по Карсунскому и Сызранскому уездам, которая состоялась 7– 19 декабря 1885 г. Вместе с другим инспектором В. М. Стржалковским именно А. А. Красев заканчивал ежегодный отчет И. Н. Ульянова, который внезапно скончался 12 (24) января 1886 г. [Исэров, 2011, с. 69].
В 1888 г. А. А. Красев был переведен в Астрахань инспектором народных училищ, но пробыл там совсем недолго, и в тот же год был назначен на должность директора народных училищ Вятской губернии. Эта должность освободилась после отъезда из Вятки Сергея Андреевича Нурминского, известного просветителя нерусских народов Поволжья. А. А. Красев охотно принял предложение поехать на работу в Вятку и работал там по 18 декабря 1902 г. О Вятском крае и его людях он слышал много хорошего от ранее работавших там своих коллег-инспекторов, – от Владимира Михайловича Стржалковского, Ивана Владимировича Ишерского и вятского уроженца Владимира Игнатьевича Фармаковского [Помелов, 2016, с. 86]. За 14 лет работы на Вятской земле А. А. Красев сумел поднять учебно-воспитательную работу в школах Вятской губернии на долж- ную высоту, отвечавшую прогрессивным идеям и требованиям того времени. Подтверждением этого служит, в частности, то обстоятельство, что за этот период в губернии существенным образом увеличилось число школ (с 875 в 1887 г. до 2475 в 1902 г.) и учащихся (с 57833 до 143873 человек), а общие расходы на образование возросли с 840051 р. до 1937796 р. [Памятная…, 1888, с. 72– 73; Памятная…, 1902, с. 54–55].
В своей практической административной деятельности А. А. Кра-сев направлял все свои усилия на открытие новых начальных и «повышенных» школ и на улучшение преподавания в них, на качественную подготовку народных учителей, на повышение квалификации инспекторов народных училищ, наконец, на создание учреждений, способствовавших совершенствованию работы школ, прежде всего библиотек [По-мелов, Гуманистический…, 1998, с. 136].
Как раз в эти годы передовое вятское земство, возглавлявшееся прогрессивными деятелями (А. К. Назаров, А. П. Батуев, В. А. Садовень, Л. В. Юмашев) осуществило ряд мер, направленных на расширение образовательных возможностей для населения и повышение качества образования, в частности посредством открытия мастерской учебно-наглядных пособий. Эти меры, разумеется, находили поддержку со стороны А. А. Кра-сева; они выражались в материальном и моральном содействии предпринимавшимся земством начинаний.
Наиболее ярким примером такого плодотворного сотрудничества губернского земства и дирекции народных училищ стала подготовка к Всемирной выставке в Париже (1900 г.) и участие в ней [Помелов, 1999, с. 229]. Россия была достаточно широко представлена на этом форуме. Особенно заметное место занимал педагогический отдел, подготовке которого предшествовала немалая подготовительная работа. Еще задолго до начала работы выставки Министерство народного просвещения разослало попечителям учебных округов циркуляр о необходимости сбора материалов, которые могли бы достойно представить Россию. Давались указания по тщательной обработке подготавливаемых материалов. Было высказано пожелание, чтобы по возможности полнее были представлены сведения о работе Московского, Нижегородского и Вятского земств, как наиболее передовых. Попечители обратились с предложениями в адрес директоров народных училищ российских губерний. А. А. Красев, в свою очередь, разослал подробные указания по школам Вятской губернии.
В итоге проделанной работы на выставку А. А. Красевым были отобраны следующие экспонаты: карты Вятской губернии и ее уездов, фотографии народных училищ, в том числе «инородческих» и их учебные планы, фотографии детей на занятиях и на отдыхе, учебники и учебные пособия, написанные вятскими педагогами, ученические работы, альбомы, статистические сведения и т. п. В частности, был представлен материал из Шурминской школы Уржумского уезда Вятской губернии, где в то время работал передовой учитель Николай Михайлович Васнецов, кстати, родной брат знаменитых художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Определенный акцент в отборе материала был сделан на «инородческий» материал в связи с тем, что министерство рекомендовало готовить для международной выставки, прежде всего, то, что могло бы представить интерес для иностранцев, а в Вятской и в соседних с ней губерниях работа в области просвещения национальных меньшинств как раз имела свои достижения.
Подведение итогов Всемирной выставки стало настоящим триумфом для вятских педагогов. Двумя золотыми медалями были отмечены дирекция народных училищ, то есть фактически А. А. Красев, а также начальные училища губернии (вместе с земской мастерской наглядных пособий) [Помелов, Педагогические…, 1998, с. 118]. Следует отметить, что, помимо вятских педагогов, такими же наградами были отмечены комиссия по устройству педагогического отдела, училищный совет при святейшем Синоде, начальные училища Московской губернии, Нижегородский училищный совет, начальные училища Бердянского уезда Таврической губернии, Харьковская секция воскресных школ (руководитель Х. Д. Алчев-ская), Кавказский учебный округ и начальные училища Санкт-Петербурга [Помелов, 1999, с. 230].
В октябрьском номере «Журнала министерства народного просвещения» за 1900 г. был помещен ряд статей о выставке. В них отмечалось, что Россия сыграла на ней блестящую роль, причем наибольших успехов (десять золотых медалей) добился педагогический отдел. В частности, в статье известного педагогического деятеля, уроженца Вятской губернии Владимира Игнатьевича Фармаковского (1842–1922) «Экспонаты русской школы» давалась положительная оценка вятским экспонатам.
-
В. И. Фармаковский писал: «Экспонаты Вятского губернского земства и Вятской дирекции народных училищ – одни из самых интересных на выставке. Карта начальных училищ дает понятие о распределении образовательных средств по разным местностям губернии. Сопровождающие ее графико-статистические материалы уясняют вполне, что сделано в Вятской губернии по части народного образования до сих пор и что остается сделать. Нельзя не отметить плодотворной деятельности земства по распространению в народе грамотности и первоначальных полезных знаний. Весьма характерно, что земство идет к цели не обычными шаблонными путями, но проявляет особенную чуткость к умственным потребностям населения и творческую изобретательность в стремлении к их удовлетворению. Так и в земских мастерских учебных пособий делается решительно все, что нужно для школ, даже столь необычные вещи, как модели из папье-маше. Все это производится не особенно чисто и изящно, но зато и стоит недорого» [Фармаковский, 1900, с. 117].
Надо полагать, что Владимир Игнатьевич Фармаковский писал об этом с особым удовольствием; ведь он сам был уроженцем Вятки, и долгие годы жил и работал здесь. Киевский учитель Иван Николаевич Жук, побывавший на выставке, особенно отмечал экспозицию Вятской губернии, которая «представила много планов, фотографий, отчетов» [Жук, 1901. с. 11].
Отметим, что на выставке оценивались, конечно, не столько сами экспонаты, сколько нашедший в них отражение вклад конкретного учебного заведения или руководителя в развитие просвещения в том или ином регионе.
Важную роль в присуждении золотой медали А. А. Красеву сыграла его книга «Краткий очерк возникновения и постепенного развития начальных народных училищ Вятской губернии с 1786 г. по 1896 г.» (Вятка, 1900), представленная на выставке в двух вариантах, – на русском и французском языках. Это было фактически второе, расширенное издание; первое было издано в 1896 г., к Нижегородской ярмарке.
В своих публикациях
А. А. Красев не только отчетливо декларировал приверженность социальным и научным идеям и концепциям передовых, прежде всего российских, педагогов, но и фактически, содержанием своих произведений и благородным характером практических усилий, направленных на просвещение народа, стремился соответствовать высоким научным и моральным стандартам и демократической направленности деятельности своих кумиров, таких как
К. Д. Ушинский, что также способствовало всероссийскому признанию этого регионального педагога, прежде всего со стороны прогрессивной научно-педагогической общественности, но одновременно нередко приводило и к репрессиям со стороны властей.
В итоге, А. А. Красев был фактически отстранен от должности директора народных училищ Вятской губернии в связи с высказыванием независимых, прогрессивных взглядов и осуществлением деятельности, соответствующей этим взглядам. В 1902 г. его сменил в этой должности Андрей Иванович Анастасиев (1852–1914). За свою работу, еще в начальный период своей профессиональной деятельности, А. А. Красев был удостоен орденов Анны II-й степени и Станислава II-й степени.
В годы первой русской революции А. А. Красев недолгое время занимался политической деятельностью, и даже баллотировался, – впрочем, безуспешно, – в Государственную Думу от партии октябристов («Союз 17 октября»). В 1906 г. он выехал на постоянное место жительства в Москву и жил там до конца жизни. В последние годы жизни он особенно много публиковался; писал мемуары, статьи на темы образования и даже музыкальные и театральные рецензии. Скончался А. А. Красев в 1921 г.
Обсуждение результатов. Таким образом, для практической педагогической деятельности А. А. Красева наиболее характерными чертами были демократизм, стремление к полной профессиональной самоотдаче в интересах просвещения народа. Истоки этого демократизма лежат в его разночинском происхождении, в постоянной близости к народу и общении с ним в процессе практической работы в Вятской и Симбирской губерниях. Демократизм А. А. Красева проявлялся и в его научном творчестве, в частности, в том, что он пытался разрешить, прежде всего, те вопросы, которые в тот период были особенно актуальны, а именно вопросы, связанные с начальным образованием народа. Этим объясняется единая социальная и методическая направленность большинства его работ.
Теперь обратимся к анализу педагогических взглядов А. А. Кра-сева, которые он изложил в ряде книг и статей, опубликованных в местной и центральной печати. Наиболее значительными из них являются книги «Что дает крестьянину начальная народная школа. По материалам, собранным в 1885 году в Карсунском уезде Симбирской губернии» (Симбирск, 1887), «Что могут и должны давать народу наши начальные народные училища) (СПб, 1906), «Чего ждет от школы наша страна для своего обновления. К вопросу о необходимых дополнениях и изменениях в курсе начального народного обучения» (Москва, 1914).
Указанные книги выходили через длительные промежутки времени (в 1887, 1906, 1914 гг.), и это обстоятельство в определенной степени обусловило такую характерную черту, присущую каждой из них, как анализ значительного числа рассматриваемых проблем в развитии. В содержании книг А. А. Кра-сева отражен достаточно широкий спектр актуальной для того времени педагогической проблематики (организация школьного дела, методика преподавания отдельных предметов, учреждение «повторительных» школ, подготовка учительских кадров, обучение «инородцев» и др.), и раскрыты некоторые, на его взгляд, рациональные пути выхода из сложных проблем, перманентно проявлявшихся в российской системе просвещения.
Указанные книги были примечательным явлением для российской, прежде всего региональной педагогической литературы того времени. В первую очередь отметим такую их отличительную черту, как смелая негативная характеристика царской политики в области просвещения. Критический подход к анализу состояния российского общества в целом, и его системы просвещения в частности, особенно присущ для его книги «Чего ждет...».
Позорное поражение в русско-японской войне, показавшее «наличие в российском государственном и общественном организме необыкновенно глубоких и упорных повреждений», не оставило больше сомнений в том, что «культурное состояние страны находится еще на самой первой ступени своего развития» [Красев, 1914, с. 3], – считал А. А. Красев. Он с сожалением отмечал, что в России, при ее многомиллионном населении очень мало даже отдельных людей «с достаточно стойкой, сильной и совершенно правильно очерченной духовной организацией» [Красев, 1914, с. 3].
Резкой критике А. А. Красев подверг, прежде всего, высшую и среднюю специальные школы, которые, по его словам, «утопают в массе своего научного и учебного материала», и относятся «к приложению его учащимся большей частью с одной только формальной стороны, без практического приноровления к потребностям живой действительности». Главный недостаток системы просвещения он видел в ее неспособности охватить начальным обучением значительное большинство крестьянского населения [Там же, с. 4].
Красев был далек от мысли об удовлетворительном состоянии дела начального образования, в том числе во вверенных ему школах Вятской губернии. Причину низкого уровня обучения, и, соответственно, неудовлетворительных знаний учащихся, он усматривал, прежде всего, в бедственном положении народа. С сожалением он констатировал: «Повторяющиеся в продолжении пяти лет из года в год неурожаи хлебов вконец подорвали благосостояние крестьян, так что в настоящее время едва ли половина из них занимается хлебопашеством и имеет нужный для этого рабочий скот. Одним словом, нищета ужасная, при которой им нет времени думать о воспитании своих детей; их преследует только одна неотвязчивая мысль, – как бы не умереть с голоду» [Красев, 1887, с. 56].
Столь явно выраженный критический подход к освещению реальной российской действительности в целом, и педагогической практики в частности, более характерный для публикаций оппозиционно настроенного журналиста, нежели для облеченного немалой административной властью, но совершенно бесправного политически, чиновника, является свидетельством ясно выраженной гражданской позиции А. А. Красева. Неудивительно, что его книги замалчивались официальной российской прессой, а другой прессы, по существу, и не было. Даже демократически настроенные, прогрессивные педагогические деятели (Н. Н. Иорданский, Н. В. Чехов, В. П. Вахтеров и др.) избегали давать какие-либо комментарии в печати, видимо, с тем, чтобы не навлечь неприятностей на те издания, в которых они сами печатались.
В то же время, свидетельством признания значительной ценности его публикаций может служить, в частности, то обстоятельство, что, например, впервые опубликованная в «Журнале министерства народного просвещения» в 1908 г. его работа под названием «Чего ждет от школы наша страна для своего обновления» спустя шесть лет в переработанном виде (усилено критическое начало) была вскоре издана в Москве отдельной книгой. Тот факт, что труды провинциального автора издавались в крупных культурных центрах (Москва, Санкт-Петербург), а также и в провинции (Симбирск, Вятка), может в определенной мере служить показателем их научной и практической значимости и свидетельством интереса, проявлявшегося широкой педагогической общественностью к взглядам их автора.
Другой отличительной чертой научно-педагогического творчества А. А. Красева явилось использование в его публикациях сочетания методов, получивших позднее наименование «социологических» (анкетирование, опрос, анализ характеристик и др.), в сочетании с такими методами как эксперимент, описательный и статистический методы. Это представляло собой достаточно новое явление в российской педагогической науке и публицистике того времени.
Известно, что, начиная со второй половины XIX в., губернскими учеными архивными комиссиями и статистическими комитетами велся подробный статистический учет в различных областях жизни российского государства. Однако эти данные служили, главным образом, для подготовки ежегодных отчетов губернаторов царю. Публикация части этих материалов в «Календарях и Памятных книжках... губернии на 18… год» осуществлялась обычно без каких-либо комментариев. Любое другое их использование контролировалось властями и обычно не поощрялось. Применение методов анкетирования и опроса было также малореально в силу их фактического запрета и наличия организационных сложностей. Но А. А. Красев, будучи директором народных училищ, имел возможность проводить исследования, и их результаты он использовал при написании своих работ. Так, в своих очерках он неоднократно возвращался к мысли о необходимости введения 4-хлетнего всеобщего начального обучения. Важность осуществления этого предложения он доказывал исключительно благотворным влиянием школы на умственное и нравственное развитие крестьян. Многие положения, выдвигавшиеся ученым в своих книгах, подтверждаются данными анкет, мнениями других педагогов, статистическими сведениями. Например, вывод о позитивном нравственном воздействии школы он сопровождает выдержками из отчетов учителей, проводивших так называемые «поверочные» («повторительные») «испытания».
Свою аргументацию А. А. Красев строил, ссылаясь на результаты проводившегося им эксперимента по организации этих испытаний, имевших место в школах Кар-сунского уезда Симбирской губернии, и заключавшихся в том, что бывшие ученики в определенный день и час приглашались в школу, где выполняли задания школьного курса по арифметике и русскому языку. Участие в этих испытаниях приняли 2842 бывших ученика этих школ [Красев, 1887, с. 39]. Результаты превзошли все позитивные ожидания, как в плане качества выполненных письменных работ, так и в плане явки. В этой связи А. А. Кра-сев писал: «Все бывшие ученики Ла-винской школы по первому известию явились в школу группами из каждой улицы, без всякого принуждения и без повторительного оповещения со стороны сельских властей в приличной одежде, с соблюдением желательной аккуратности. Они в порядке заняли места за партами, положили шапки в парты и уселись чинно, не дозволяя себе ни на одну минуту какого-либо неприличия и небрежности» [Там же, с. 11].
Педагог также отмечает достаточно высокий нравственный уровень этих уже взрослых крестьян: «Бывший ученик, неприлично выражавшийся в моем присутствии, составляет в своем роде выродка из школьников» [Там же, с. 12]. Тем самым, он хотел подчеркнуть тот факт, что школа оказывает позитивное нравственное воздействие на учеников, и это положительное влияние сохраняется в течение многих лет даже после окончания школы. Книга А. А. Красева «Краткий очерк...», высоко оцененная экспертами на Всемирной выставке, и включавшая аналитическую характеристику истории развития системы просвещения в Вятской губернии, представляет интерес, в частности, в том отношении, что в ней нашли отчетливое отражение некоторые положения, являвшиеся достаточно новыми для историко-педагогических исследований того времени. Это, прежде всего, как уже указывалось, социологический подход автора к рассмотрению и анализу состояния просвещения в изучаемый исторический период. Указанный подход проявился, прежде всего, в том, что ученым показано влияние социально-экономических и политических тенденций общероссийского и местного масштаба на степень развития образования в регионе, анализируются исторические и современ- ные позитивные и негативные предпосылки, предопределившие характер этого развития.
К позитивным предпосылкам автор, в частности, относил практически полное отсутствие в Вятской губернии помещичьего землевладения, исключительно активную деятельность вятских земств, многона-циональность местной культуры, большое число местных «апостолов просвещения», тягу населения к знаниям, положительное отношение населения к школе и др. К отрицательным предпосылкам относились невысокий по российским масштабам уровень развития промышленности, слабое распространение транспортной сети в Вятской губернии. И это при том, что Вятская губерния являлась в конце XIX – начале XX вв. одной из самых крупных по территории в стране и занимала первое место по численности населения, опережая по этому показателю Киевскую, Московскую и Санкт-Петербургскую губернии!
В то же время в Вятской губернии отсутствовали вузы и какие-либо научные сообщества, за исключением разве что Вятской ученой архивной комиссии. Но такие комиссии создавались в обязательном порядке в каждой губернии. Все это имело своим печальным следствием, в частности, то, что «на Вятке» в тот период вообще не было крупных ученых.
Характеризуемая работа представляет собой образец рационального использования таких методов, как методы статистики, периодизации, сравнительно-сопоставитель- ный. Ученым фактически была предложена схема анализа состояния системы просвещения в конкретном регионе, в которую включены такие показатели, как финансирование учебных заведений (бюджет и его источники), состояние хозяйственной и учебно-материальной базы и ее соответствие современным гигиеническим и дидактическим требованиям (например, наличие школьной библиотеки, наглядных пособий, столовой, интерната, приусадебного участка), учителя (их количественный состав и образовательный уровень), учащиеся (их социальное положение, материальная обеспеченность, возраст). Таким образом, вятский педагог в своих работах одним из первых среди региональных авторов использовал ряд методов, получивших со временем широкое распространение в педагогических исследованиях.
Гуманистическая направленность составляет еще одну отличительную особенность педагогических трудов А. А. Красева. В книге «Что могут и должны давать народу наши начальные народные училища» он с удовлетворением отмечал, что теперь уже не приходится агитировать крестьян за школу; они не только «охотно отдают своих детей в училища, буквально наперерыв друг перед другом» [Красев, 1906, с. 4], но и требуют от земств принятия решительных мер к устройству училищ с повышенным (четырехлетним) курсом обучения, открытия общественных (при училищах) библиотек, сельскохозяйственных училищ, ремесленных отделений. Все это, по его мнению, служило свидетельством постепенного формирования в вятской провинции региональной образовательной среды, было показателем роста и становления просвещенческих и культурных запросов населения.
«Устроение» начальной народной школы А. А. Красев считал начальной ступенькой устройства всей будущей России, а потому, указывал он, «на создание лучших условий для жизни и деятельности школ нужно нести весь жизненный и специально-педагогический опыт всей страны, чтобы ни одно зерно распространяемого через школы знания не могло остаться недостаточно полезным для нашего народа» [Красев, 1906, с. 21]. Однако тяжелое материальное положение народа во многом сводило на нет все усилия педагогов. А. А. Красев с сожалением отмечал: «Понятно, что при такой гнетущей бедности мальчики, по выходе из школы, скоро забывают все то, чему обучились в ней, становясь еще с детства необходимыми помощниками своим родителям в их тяжелой жизни» [Там же, с. 56]. Тяжелое материальное положение объясняет практически полное отсутствие домашних библиотек. В среднем на крестьянский двор приходилось, по данным А. А. Красева, по одному экземпляру светской и религиозной литературы. Наиболее охотно крестьяне читали Евангелие, а также лубочные сказки о Еруслане Лазаревиче, Бове Королевиче, Английском Милорде [Помелов, Педагогические…, 1998, с. 120]. Вот почему он ставил перед школой, земством и церковью задачу поднятия грамотности и взрослого крестьянского населения, в том числе посредством расширения практики бесплатной раздачи книг населению.
Важной для того времени гуманистической идеей в педагогическом наследии А. А. Красева, и, одновременно, проявлением гуманизма его педагогических взглядов является отношение педагога к проблеме женского образования. Он убеждал оппонентов в необходимости обучения в школе девочек, чему активно противодействовали негативные стереотипы, складывавшиеся на протяжении всей истории российского образования. Он доказывал, что в житейском отношении грамотная девочка стоит несравненно выше неграмотной, находится «в большом почете у окружающих», что побуждает ее дорожить своим положением, «не ронять себя в добром имени соседей» [Помелов, Гуманистический…, 1998, с. 137]. А. А. Красев считал, что грамотная женщина принесет крестьянской семье даже больше пользы с точки зрения воспитания своих детей, нежели грамотный мужчина, направляющий обычно «пользу грамоты» лишь в житейскую, практическую сторону [Там же, с. 137].
Отстаивание А. А. Красевым позиций передовой российской педагогики в области методики обучения в начальной школе явилось еще одной отличительной особенностью его научно-педагогических работ. В качестве основных методических положений вятским педагогом выдвигались «разумный отбор и твердое очерчивание» преподаваемого материала, проведение уроков «с чувством и настроением», эмоционально, так, чтобы их содержание западало в души учеников. Этим самым он хотел подчеркнуть, что усваиваемый материал должен иметь не только обучающий, но и воспитывающий характер. А это, во многом, достигается тем, как и под каким углом зрения освещается тот или иной факт, «как он согревается общим чувством и настроением самих преподавателей» [Красев, 1887, с. 43].
Поэтому важное значение А. А. Красев придавал не только усвоению ребенком тех или иных фактов, но и их непосредственному эмоциональному восприятию и переживанию. Ученик должен, считал автор, «на все отвечать чувствами и настроением своей собственной души, своего сердца» [Там же, с. 43]. В качестве содержательной основы обучения А. А. Красев выдвигал «всю живую природу, всю минувшую жизнь», то есть историю человечества в ее многочисленных и разнообразных проявлениях. В связи с этим, педагог придавал особенно важное значение рациональному содержательному оснащению учебного процесса. На первый план им выдвигалась «чистая реальность», под которой он подразумевал отсутствие формализма и схоластики, привлечение жизненно необходимого, актуального учебного материала. «Реалистический» подход в обучении должен был, по его мнению, способствовать осуществлению принципа интереса в обучении [Кра-сев, 1887, с. 43]. В этой связи он подверг особенно острой критике преподавателей религиозных предметов (Закон Божий, церковно-славянский язык, церковное пение) за догматизм, оторванность от потребностей и интересов детей.
Такого рода выводы вызывали негодование в среде законоучителей. Но А. А. Красева это не смущало; он неуклонно придерживался своей позиции. Для законоучителей, – писал А. А. Красев, – было особенно характерно высокомерное отношение к вопросам методики преподавания и отбора преподаваемого материала. В свое оправдание они обычно выдвигали довод о том, что им мешают экзамены, «низводящие слово благовестия» до уровня обыкновенного учебного предмета [Помелов, 2008, с. 121].
А. А. Красев рекомендовал тщательно отбирать и «твердо очерчивать» преподаваемый материал, вести уроки с чувством и настроением, эмоционально, так, чтобы они западали в души учеников. Целью сближения школьного обучения с жизнью он, в частности, рекомендовал проводить параллели между церковной и крестьянской жизнью. Он писал в связи с этим: «Все более поучительные события священнобиблейской истории и отдельные черты из жизни священно-библейских лиц должны как можно чаще приводиться в самое живое и близкое соотношение с фактами и проявлениями действительной жизни и деятельности, взятыми по возможности из близкой детям крестьянской среды и из живых над нею наблюдений, доступных даже детскому возрасту. Все эти параллели и сопоставления всегда будут совершенно понятны для детей и будут производить на них очень сильное впечатление как уроки, взятые не из книг, а из самой жизни» [Красев, 1906, с. 33].
Надо признать, что в педагогическом наследии А. А. Красева отсутствует стройная система в рассмотрении важнейших педагогических понятий. Но он как, прежде всего, администратор-практик, и не ставил перед собой задачу построения какой-либо системы. Тем не менее, некоторым педагогическим понятиям он дал свою трактовку. Например, принцип последовательности в обучении А. А. Красев объяснял следующим образом: «Каждая новая часть материала никогда не должна являться чем-то оторванным, обособленным, но всегда находиться в более или менее живой и непосредственной связи с пройденным уже детьми материалом, служить как бы дальнейшим его продолжением и развитием» [Красев, 1914, с. 43]. Так, на уроках объяснительного чтения в 1-м классе материал берется из ближайшего окружения ребенка. Во 2-м классе учитель выводит детей за пределы родной деревни. В 3-м классе учение идет с привлечением материала общероссийского содержания, и, наконец, в 4-м классе изучаются страны света, другие государства и народы. Аналогичным образом, считал А. А. Красев, должны строиться и уроки природоведения: в 1-м классе основное внимание уделяется тому, что ближе ребенку – огородным и садовым растениям, во 2-м классе – полевым работам, в 3-м классе изучаются домашние животные, в 4-м классе – дикие животные [Помелов, Педагогические…, 1998, с. 124].
В своих социальных и методических воззрениях А. А. Красев был близок некоторым другим ученым Средне-Волжского региона, что нашло свое отражение в материальной и моральной поддержке региональных авторов по изданию их трудов (Н. Н. Блинов, В. И. Фарма-ковский, И. С. Михеев и др.). Он был сторонником активного использования в обучении местного материала. В частности, подобно Н. Н. Блинову и И. С. Михееву, А. А. Красев считал, что учебный материал для объяснительного чтения должен включать, прежде всего, то, что окружает детей. А. А. Красев писал в связи с этим: «Это их маленькая сельская школа, их родной дом, огород, сад, если он имеется, родное поле, луга, лес, горы и все то, с чем сродняется ребенок с первых лет своего детства. И этого очень достаточно будет для детей на весь первый год обучения» [Красев, 1914, с. 45].
Тем самым, он разделял взгляды Н. Н. Блинова и И. С. Михеева на необходимость использования в обучении местного, локального материала. Однако хотя идея регионализма и была одной из ведущих в педагогической практике в теоретическом наследии целого ряда педагогов рассматриваемых регионов, она никогда не становилась доминирующей. Подтверждением этого утверждения служит тот факт, что директора народных училищ Вятской губернии конца XIX – начала XX вв. С. А. Нурминский,
А. Д. Сильницкий, А. А. Красев, А. И. Анастасиев и др., поддерживая местных авторов в издании и распространении их научно-педагогических и учебно-методических трудов, справедливо отдавали явное предпочтение пособиям видных педагогов российского масштаба.
Вот почему важное место в работах А. А. Красева занимало отстаивание позиций передовой российской педагогической мысли. С особенно большой теплотой он отзывался, в частности, об учебных книгах К. Д. Ушинского, чтение которых, по его словам, «вносило особенно много света и радости в школьную жизнь детей. Высокое общее настроение, каким проникнуты эти книги, изящный, благородный и в то же время чрезвычайно простой их язык, необыкновенная привлекательность и наивная прелесть сюжетов, взятых для этих изданий из природы и жизни детей, какое-то особенное приноровление всего предметного содержания этих книг к складу и настроению детской мысли и души, – все это производило очень сильное впечатление на учащихся в школе детей и давало совершенно определенное и вполне желательное направление движению и развитию всех их душевных сил и способностей» [Красев, 1906, с. 61]. В процессе изучения «этого прекрасного материала» дети обогащали свой язык новыми словами и оборотами речи, развивали в себе новые чувства и настроения [Там же, с. 61].
Взгляды А. А. Красева по вопросу о преподавании русского языка в национальной школе во многом совпадали с воззрениями И. С. Михеева и, в определенной степени, послужили основой для становления методических воззрений последнего. Так, А. А. Красев резко критиковал министерские учебные планы и программы для начальных школ 1897 г., в которых был сделан явный крен в сторону усиленного изучения этимологических и синтаксических форм.
При этом, по справедливому замечанию педагога, не в полной мере были учтены познавательные возможности основной группы населения, для которой этот материал предназначался, – крестьянских, и, в особенности, нерусских детей. Не имеющий практического значения лингвистический материал скорее поражал детей своим богатством и разнообразием, причем поражал в такой степени, с иронией замечал автор, что до выяснения его смысла и значения в применении к живой речи дело нередко уже и не доходило [Помелов, Гуманистический…, 1998, с. 138].
А. А. Красев вспоминал, как однажды во время урока его поразило искаженное ужасом выражение лица одного мальчика, услыхавшего впервые слово «падеж», и принявшего его в том смысле и значении, в каком оно употребляется в крестьянской семье [Помелов, Педагогические…, 1998, с.123].
С тем слабым влиянием, какое оказывает на образование детей изучение ими грамматических форм, еще можно бы было примириться, отмечал А. А. Красев. Однако учителя, вынужденные подчиняться требованиям программы, находили грамматический раздел курса русского языка особенно трудным, вследствие чего отдавали ему чрезмерно много учебного времени в ущерб практическому усвоению языка. Неудивительно, что обычно бодрые и веселые на других уроках, дети сникали именно на уроках грамматики [Там же, с. 123].
То, что изложено в работах А. А. Красева по данному вопросу в плане критического анализа в общем виде, получило в трудах видного методиста И. С. Михеева конкретную методическую проработку [Поме-лов, 2007]. А. А. Красев противопоставлял утомительному заучиванию грамматики уроки объяснительного и выразительного чтения, ознакомление с лучшими произведениями русской литературы; отдавал предпочтение творческим работам перед рутинными формами деятельности. Так, выделяя при обучении письму такие виды работ как каллиграфическое и орфографическое письмо, диктант и творческие работы, педагог считал важнейшими из них два последних, и сетовал на то, что программа 1897 г. уделяла чрезмерное внимание первым двум видам работ. В связи с этим он отмечал: «Излишней полнотой и чрезвычайным разнообразием этого материала оказались совершенно почти затененными все более существенные отделы школьной программы по письму и, в частности, все виды более содержательных и более полезных для детей специально смысловых письменных работ» [Красев, 1887, с. 85].
При этом он критиковал методическое руководство А. И. Анаста-сиева «Письменные упражнения для учащихся дома и в школе» (Ч. 1. Вятка, 1904) за то, что в нем большое место занимали орфографические упражнения. Здесь А. А. Красев, по нашему мнению, допускал определенную односторонность и чрезмерную категоричность в своих высказываниях. Мы полагаем, что пособие А. И. Анастасиева, одно из лучших в те годы учебных пособий такого рода, включало обильный материал для закрепления именно орфографических навыков и поэтому «засилье орфографии» (выражение А. А. Кра-сева) здесь было оправдано.
Сам А. А. Красев считал орфографическую правильность письма всего лишь вспомогательным средством к выполнению детьми работ «более серьезного смыслового содержания», и поэтому орфография не должна была, по его мнению, занимать «такого видного, как теперь, почти выдающегося значения» [Кра-сев, 1906, с. 93].
Здесь, как нам кажется, А. А. Красев в определенной степени приходит в столкновение с общепризнанным дидактическим требованием «не торопиться при изучении основ». Для научного творчества А.А. Красева присущ в известной степени, если можно так выразиться, «командно-распорядительный» стиль изложения. В некоторых его материалах явственно выражена безапелляционность отдельных высказывавшихся им положений и взглядов, заметно проявление некоторой односторонности при характери- стике сложных педагогических проблем. При рассмотрении последних преобладает публицистический стиль изложения; наблюдается стремление к охвату одновременно слишком большого числа проблем, что, в итоге, сказывается на качестве их анализа. Однако, в целом публицистическая, методическая и практическая организаторская деятельность А. А. Красева представляет собой примечательную страницу в истории российского провинциального просвещения второй половины XIX – начала ХХ вв.
Глубокий, всесторонний и объективный анализ важнейших проблем российского просвещения, использование новых для того времени методов исследования, гуманистическая направленность педагогического наследия, следование традициям передовой российской педагогики, большой личный вклад в развитие просвещения в ряде российских губерний, – все это позволяет характеризовать деятельность А. А. Красева как содержащую значительный аксиологический и гуманистический потенциал.
Заключение . А. А. Красев внес неоценимый вклад в педагогическую публицистику. Актуальность этого научного направления для развития российской педагогической мысли ощущалась в те годы отчетливо, особенно теми педагогами, кто сам занимал какую-либо административную должность в народном образовании.
Для его работ характерны глубокое знание насущных проблем российской и, прежде всего, провинциальной школы, большая научная убедительность содержания работ и выводов. Хотя научные воззрения А. А. Красева и его педагогическое наследие не подходят под понятие какой-то единой концепции или даже определенного направления, анализ его научно-практической деятельности позволяет выделить ряд характерных особенностей.
Прежде всего, это гармоническое сочетание научно-педагогического и учебно-методического аспектов. Другой важнейшей чертой педагогического наследия А. А. Кра-сева является стремление выйти в своих исследованиях на всероссийский уровень, преодолеть подчас проступающий при рассмотрении научного творчества некоторых местных ученых провинцианализм, проявляющийся, чаще всего, в таких характеристиках, как гиперболизация значимости своих научных достижений, излишняя категоричность утверждений, постановка местных региональных особенностей, характеризующих предмет изучения, в центр не только конкретного исследования, но и научного направления в целом, а также пренебрежительное отношение к использованию передового российского и зарубежного опыта.
Преобладающая оценка, даваемая исследователями А. А. Красеву как ученому и деятелю образования, состоит в том, что его труды и деятельность оказали существенное положительное влияние на повышение уровня подготовленности симбирских и вятских учителей, а также педагогов-практиков других российских губерний, которые знакомились с его педагогическими трудами.
Творческое наследие видного российского педагога Александра Алексеевича Красева во многом сохраняет свою значимость и в настоящее время, что подчеркивает актуальность его дальнейшего исследования.
Список литературы Научная и практическая деятельность видного российского педагога А. А. Красева. К 180-летию со дня рождения
- Жук, И. Н. Доклад учителя Киевского городского училища о поездке на Всемирную выставку в Париж. – Киев, 1901. – 12 с. – Текст: непосредственный.
- Исэров, А. А. Директор народных училищ Вятской губернии Александр Алексеевич Красев: материалы к биобиблиографии // XI-е Салтыковские чтения: материалы Всеросс. научн. конф. / редкол.: Н. П. Гурьянова [и др.] – Киров. – ИД «Герценка». – 2011. – С. 68–78. – Текст: непосредственный.
- Кондаков, А. И. Директор народных училищ И. Н. Ульянов. – Москва. – Просвещение. – 1964. – 280 с. – Текст: непосредственный.
- Красев, А. А. Чего ждет от школы наша страна для своего обновления. К вопросу о необходимых дополнениях и изменениях в курсе начального народного обучения. – Москва. – 1914. – 82 с. – Текст: непосредственный.
- Красев, А. А. Что дает крестьянину начальная народная школа. – Симбирск, Губернская тип., 1887. – 106 с. – Текст: непосредственный.
- Красев, А. А. Что могут и должны давать народу наши начальные народные училища. – Санкт-Петербург. – 1906. – 138 с. – Текст: непосредственный.
- Памятная книжка и Календарь Вятской губернии на 1889 г. – Вятка. – Губернская тип. – 1888. – 420 с. – Текст: непосредственный.
- Памятная книжка и Календарь Вятской губернии на 1903 г. – Вятка. – Губернская тип. – 1902. – 442 с. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Видный российский педагог А. А. Красев (1844–1921) / В. Б. Помелов // – Текст: непосредственный. Педагогика. – 2021. – № 2. – С. 89–101.
- Помелов, В. Б. Гуманистический потенциал практической деятельности и научных трудов видного вятского педагога второй половины ХIХ – начала ХХ вв. А. А. Красева / Гуманистическая парадигма образования и воспитания: теоретические основы и исторический опыт реализации (конец ХIХ – 90-е гг. ХХ вв.): материалы российской научной конференции / ред. З. И. Равкин и М. В. Богуславский. – Москва. – ИТОиП РАО. – 1998. – С. 135–138. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Духовно-нравственное содержание педагогического наследия И. С. Михеева / Самобытная Вятка: актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания: сб. научных трудов / отв. ред. и сост. А. Г. Поляков и др. – Киров. – ООО «Лобань». – 2007. – С. 42–56. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Взгляды В. И. Фармаковского на обучение в трудовой школе / В. Б Помелов. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2016, № 3. – С. 85–89.
- Помелов, В. Б. Лингвистические идеи просветителя удмуртского народа И. С. Михеева / Языковое образование младших школьников: опыт, проблемы, перспективы: материалы научно-практической конференции 1–2. 11. 2007 г. / под ред. О. И. Колесниковой. – Киров. – Изд-во ВятГГУ. – 2008. – С. 21–30. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Педагогические и мировоззренческие взгляды А. А. Красева // Сознание – мировоззрение – мышление: сб. статей: вып. № 3 / ред. В.Ф. Юлов. – Киров, Изд-во ВГПУ, 1998. – С. 117–125. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Триумф вятских педагогов на всемирной выставке в Париже / Вятская Земля в прошлом и настоящем: материалы 4-й региональной конференции / гл. ред. В. С. Данюшенков. – Киров. – Изд-во ВГПУ. – 1999. – С. 229–231. – Текст: непосредственный.
- Фармаковский, В. И. Отдел начального обучения и воспитания на Парижской выставке 1900 г. / В. И. Фармаковский. – Текст: непосредственный // Журнал министерства народного просвещения. – 1900. – № 10. – С. 97–127.