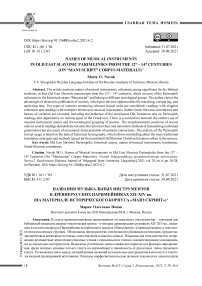Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII-XIV вв. (на материале исторического корпуса «Манускрипт»)
Автор: Новак Мария Олеговна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы наименования музыкальных инструментов - значимая для библейской традиции лексико-тематическая группа - в четырех древнерусских рукописях XII-XIV вв., входящих в состав подкорпуса Паримейника исторического корпуса «Манускрипт» и принадлежащих к текстологически различным группам. Обоснованы преимущества электронной публикации источников, предоставляющей новые возможности поиска, сопоставления и анализа данных. Показаны два типа контекстов, содержащих релевантные лексические единицы: чтения с единичными и чтения с множественными упоминаниями музыкальных инструментов. Выявлены устойчивые греко-славянские параллели и факторы варьирования, среди которых влияние четьего текста на паримейный и зависимость от различных типов греческого текста. Установлена связь между употреблением названий музыкальных инструментов в контексте и текстологической группировкой источников. Описаны морфосинтаксические позиции лексических единиц в ряде чтений, демонстрирующие не только соотношение архаичных и инновационных приемов передачи отдельных граммем, но и случаи окказионального переосмысления синтаксических связей. Лексический узус Паримейника рассмотрен с опорой на данные исторической лексикографии, что позволяет сделать вывод об отражении в источниках традиционных стратегий и приемов перевода, имеющих системный характер в переводной древнеславянской книжности.
Древнерусские паримейники, исторический корпус, названия музыкальных инструментов, перевод, греко-славянские параллели
Короткий адрес: https://sciup.org/149139445
IDR: 149139445 | УДК: 811.161.1'04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.6.2
Текст научной статьи Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII-XIV вв. (на материале исторического корпуса «Манускрипт»)
DOI:
Цитирование. Новак М. О. Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII– XIV вв. (на материале исторического корпуса «Манускрипт») // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 6. – С. 18–28. – DOI: jvolsu2.2021.6.2
Введение: характеристика исследовательского проекта
Статья представляет результаты исследования в рамках международного проекта, посвященного электронной публикации и комплексному лингвотекстологическому изучению древнерусских Паримейников XII–XIV веков. Среди его целей – пополнение электронного исторического корпуса «Манускрипт» двумя машиночитаемыми копиями малоизученных списков Паримейника и расширение подкорпуса памятника (к началу проекта на портале «Манускрипт» уже были опубликованы два источника).
Значение Паримейника (богослужебного сборника, включавшего великопостные и праздничные чтения из Ветхого Завета) для истории древнеславянской книжности трудно переоценить. Его перевод появился столь же рано, как и переводы новозаветных книг, Евангелия и Апостола, в русле деятельности Кирилла и Мефодия, заложив основы общеславянского литературного языка и дав импульс развитию оригинальных литератур южных и восточных славян.
Существует обширная научная литература, посвященная текстологии и языку древнеславянского Паримейника, в том числе несколько изданий южнославянских источников (см.: [Рибарова, Хауптова, 1998], (Jовановић-Стипчевић, 2005)), а также отдельных библейских книг в составе памятника (детальный библиографический обзор см. в: [Čermák, 2008]). Интернет-издание рукописей, однако, имеет серьезные преимущества перед традиционными публикациями: в нем предусмотрены различные способы визуализации текстов, а машиночитаемые транскрипции источников сопровождаются различного рода метаданными, лингвистической разметкой и аналитическими модулями, что открывает исследователям богатые возможности поиска и сопоставления данных на разных уровнях текста (обзор функций исторического корпуса см. в: [Баранов, 2015]).
Источники и задачи исследования
Принципиально важно то, что в состав подкорпуса Паримейника впервые вводится самый старший из известных на данный момент списков Паримейника – древнерусский Лазаревский (Сковородский) паримейник из собрания РГАДА (ф. 381, оп. 1, Тип. 50, 126 л.; далее – Лаз), датируемый первой третью либо серединой XII в. [Князевская, 1999; Михеев, 2019; Мольков, 2020] и «опережающий» в этом отношении среднеболгарский Гри-горовичев паримейник XII–XIII вв., который долгое время считался наиболее древним и лексика которого была включена в многотомный «Slovník jazyka staroslověnského» Пражской академии наук (SJS).
Новой для подкорпуса является транскрипция Федоровского II паримейника (РГАДА, ф. 381, оп. 1, тип. 60, 107 л.; далее – Фед) – также малоизученной рукописи XIII века.
Кроме того, ранее в состав подкорпуса уже были введены известный Захарьинский паримейник 1271 г. (РНБ, Q.п.I.13, 264 л.; далее – Зах) и паримейник XIV в. из собрания Троице-Сергиевой лавры (РГБ, ф. 304/I, № 4, 142 л.; далее – Тр4).
Согласно текстологическому исследованию, выполненному А.А. Пичхадзе на материале паримейных чтений книги Исход [Пичхадзе, 1991], Лаз принадлежит к древ- нейшей группе списков, транслирующих ки-рилло-мефодиевскую традицию перевода. Зах возглавляет Захарьинскую группу, Фед входит в Козминскую, Тр4 – в Семеновскую; все три группы занимают «промежуточное положение между паримейниками Древнейшего типа и Поздней редакции» [Пичхадзе, 1991, с. 150]. При этом инновации Захарьин-ской и Козминской групп возникали, по мнению А.А. Пичхадзе, стихийно, при копировании текста, тогда как протограф Семеновской группы был целенаправленно отредактирован по греческому оригиналу [Пичхадзе, 1991, с. 152–153].
Таким образом, все вовлеченные в наше исследование источники имеют разнообразные текстологические «вводные», что позволяет ожидать нетривиальных результатов. Наша задача – оценка семантического соотношения славянских эквивалентов и их греческих коррелятов и поиск факторов варьирования лексических единиц. Данные перечисленных выше восточнославянских рукописей будут анализироваться на фоне древнееврейских параллелей, Септуагинты – греческого перевода Библии (по мультиязычному ресурсу (Bible Hub)), и сопоставляться с доступными нам опубликованными южнославянскими списками Паримейника (Jовановић-Стип-чевић, 2005), четьими книгами Геннадиевской Библии 1499 г. (ГИМ, Син. 915, 1002 л.; далее – ГБ), как некоторого итога рукописной традиции, а также с материалами исторической лексикографии – чтобы представить узус Паримейника в контексте древнеславянской книжности в целом. Анализ лексического материала естественным образом влечет за собой ряд грамматических комментариев, поскольку словоформы не функционируют изолированно.
Данные для сопоставления извлекались из четырех источников, чьи машиночитаемые копии размещены в историческом корпусе «Манускрипт», двумя способами: либо путем поиска отдельных лексем в многотекстовой запросной форме srch. simple?p_ed_id=94052725), либо путем вывода на страницу поиска паримейных чтений в параллельном корпусе списков Паримей-ника 94052725), с последующей проверкой по фо- токопиям рукописей на сайтах Троице-Серги-евой лавры , РНБ и РГАДА (http://rgada. info/). Местонахождение лексических единиц в библейских книгах определялось с помощью указателей в [Алексеев, 2008; Коляда, 2004]. Интерпретация семантики греческих параллелей осуществлялась с помощью «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого (Alpha).
Фокус исследования: лексико-тематическая группа «музыкальные инструменты»
На первом этапе изучения лексики древнерусских паримейников в качестве объекта анализа выбраны наименования музыкальных инструментов – по причине исключительной значимости инструментальной музыки в Библии. Как отмечено в исследованиях Е.И. Коляды, в 25 из 30 книг Ветхого Завета упомянуто 29 различных музыкальных инструментов – духовых, струнных и ударных; 21 наименование более или менее точно атрибутировано [Коляда, 1998; 2004, с. 8]. Уже в начале книги Бытия (4:21) один из отдаленных потомков Адама, Иувал, назван отцом «всех играющих на гуслях и свирели» (греч. ψαλτήριον κα r κιθάραν) и упомянут наряду с кочевником-скотоводом («отец живущих в шатрах со стадами») и кузнецом («ковач всех орудий из меди и железа»). Е.И. Коляда подчеркивает значимость этого краткого перечня древних занятий: «Инструментальное музицирование включается в Книге Бытия в число трех главных родов деятельности древнего человека наряду со скотоводством и кузнечным ремеслом (Быт. 4:18–22), что свидетельствует о важной, если не первостепенной роли музыки в его жизни» [Коляда, 2004, с. 25].
Роль музыки в библейских религиозных культах трудно переоценить. Среди священников-левитов были и певцы, и инструменталисты, сопровождавшие богослужения и обряды – вначале перед Ковчегом завета, затем в Первом и Втором Иерусалимском Храме [Коляда, 2004, с. 12–13]. Музыка сопровождала светские церемониалы и развлечения древнего Израиля (ср. обличительный контекст из книги пророка Исаии 5:12, о котором пойдет речь в статье) и языческие ритуалы
(ср. описание поклонения золотому истукану в книге пророка Даниила – оно также будет анализироваться ниже).
Ветхозаветные описания музыкальных практик находят продолжение в Новом Завете и дают богатую пищу для символической трактовки инструментов в христианской традиции. Например, ранняя святоотеческая экзегеза (как византийские, так и латинские авторы) нередко противопоставляла струнные псалтерий и кифару – те самые инструменты, играть на которых, согласно книге Бытия, научил человечество Иувал. У псалтерия резонатор располагался вверху, у кифары – внизу; по этому признаку псалтерий метафорически уподоблялся душе / духу, кифара – телу / плоти [Петров, 2009].
Основная трудность анализа данной лексико-тематической группы заключается в том, что славянские книжники работали с греческим текстом, который, в свою очередь, был переводом с древнееврейского и арамейского языков, и далеко не всегда точным. Как отмечает Е.И. Коляда, «различные толкования инструментов возникли уже в древности и с тех пор “путешествуют” из одной версии Священного Писания в другую, из одного языка в другой. И Септуагинта, и последующие переводы греко-иудеев Акилы, Феодотиона и Симмаха, сирийская Пешитта и арамейские Таргумы, наконец, латинская Вульгата, в целом следуя оригиналу на иврите... в ряде случаев допускают значительные отклонения: путают, а часто взаимозаменяют как типологически разные инструменты – киннор (лира) и невел (арфа), так и однотипные – шофар (рог) и хацоцру (труба)» [Коляда, 2004, с. 223]. Таким образом, в Септуагинте один и тот же греческий термин может передавать разные древнееврейские названия инструментов (например, древнеевр. и арамейск. шофар, йобел, карна, хацоцра : греч. σάλπιγξ) [Коляда, 2004, с. 255, 258, 260, 261], и наоборот (например, древнеевр. невел : греч. νάβλα, ψαλτήριον, κιθάρα, – ργανον) [Коляда, 2004, с. 266]. Славянский перевод отражает обе тенденции с некоторым тяготением ко второй (например, греч. α š λ ü ς : слав. ц э вьница, пищаль, свир э ль, сопьль) [Коляда, 2004, с. 273] и наследует, как мы увидим далее, свободное отношение к языку первоисточника.
Анализ материала
Интересующие нас контексты в подкорпусе Паримейника можно разделить на две группы: первая представляет единичные упоминания музыкальных инструментов, вторая – целые перечни. Рассмотрим их последовательно.
-
1. В первой группе фигурирует стабильная греко-славянская параллель σάλπιγξ : труба , не подверженная варьированию. Так, в чтении Лазаревой субботы из книги пророка Захарии (9:14) во всех списках встречается словосочетание въ трубу въструбить (Лаз, л. 76; Зах, л. 170; Тр4, л. 78 об.; Фед – пропуск) – греч. d ν σάλπιγγι σαλπιε ß .
-
2. Вторая группа чтений представляет более сложную картину, поскольку функционирование в контексте сразу нескольких (двух и более) наименований инструментов предполагает дополнения, сокращения, изменение порядка слов. Именно в этих фрагментах можно столкнуться с широким лексическим варьированием.
Ситуация становится несколько разнообразнее, когда наименование духового инструмента оказывается в позиции приименного генитива: проявляется варьирование на морфосинтаксическом уровне. Так, в чтении вечерни Великого четверга, Исход, глава 19, находим словосочетания φωνx τyς σάλπιγγος (стих 16) и φωναr τyς σάλπιγγος (стих 19). В первом случае перевод генитива τyς σάλπιγγος дает в славянских рукописях конкуренцию форм родительного (гла(съ) троу-бы – Лаз, л. 85 и Тр4, л. 88) и дательного (гла(съ) троубэ – Зах, л. 190 об. и Фед, л. 76) приименного. Во втором случае τyς σάλπιγγος передается либо родительным приименным (гл(а)си трубы – Тр4, л. 88), либо адъекти-вом (гласи троубьнии – Лаз, л. 85; Зах, л. 190 об.; Фед, л. 76). Передача греческого приименного генитива славянским дативом либо прилагательным была, как известно, широко распространена на раннем этапе развития древнеславянской книжности [Историческая грамматика..., 1978, с. 401], тогда как грамматически строгое соотношение «греческий генитив – славянский генитив» более характерно для поздней справы, включая афонскую версию богослужебных книг [Чевела, 2010, с. 192–198]. Наши источники демонстрируют относительную независимость от этой тенденции: Лаз, представитель древнейшего типа паримейного текста, в стихе 16 объединяется с отражающим целенаправленную редактуру Тр4 в своем предпочтении генитива. В стихе 19, напротив, Тр4 противостоит остальным спискам, использующим древнюю стратегию передачи генитива формой прилагательного.
Своего рода выравнивание наблюдается в стихе 13 того же чтения книги Исход: словосочетание α j φωναί κα r α j σάλπιγγες ‘голоса и трубы’ передано точно во всех источниках, кроме Фед, где встречается гла(съ) трубы (л. 75 об.), явно по модели с именным управлением, представленной в стихах 16 и 19.
Своеобразное решение предлагает Федоровский II паримейник и в великопостном чтении (среда шестой седмицы, на 6-м часе) из книги пророка Исаии (58:1). Греческая конструкция © g aaXniYYa v ^maov (t x v фюv^v aou) ‘как трубу, возвысь (голос твой)’ имеет соответствие a ко троубоу възнеси , однако в Фед это выражение переосмыслено по образцу грецизированного синтаксического оборота с участием инфинитива и датива: a ко троуб э възнести гла(съ) свои (л. 59 об.)
Первое чтение такого рода мы уже упомянули: это стих об «отце музыкантов» Иувале – Быт. 4:21. В Септуагинте о нем сказано так: ο £ τος ƒ ν ¿ καταδείξας ψαλτήριον κα r κιθάραν ‘(вот) он научил псалтерию и кифаре’. В наших источниках обнаруживается соответствие сь б э съказавыи пр э гоудьницоу и гоусли (приводим контекст по старейшему списку Лаз, л. 31; вариантность в других рукописях затрагивает лишь нерелевантные грамматические детали).
В данном контексте греч. ψαλτήριον называет струнный щипковый инструмент типа лиры (древнеевр. киннор), κιθάρα – духовой, типа флейты (древнеевр. ‘угав). Греческая версия, однако, представляет оба инструмента как струнные. Славянский перевод предлагает два образования от основы гоуд-, которая отождествляется в исторической лексикографии с игрой на струнных (например, в словарных статьях «гnсти», «гnдениe» и «гnсли» в (SJS, vol. I, p. 449); «Словарь рус- ского языка XI–XVII вв.» в статье «прегуд-ница» использует более осторожную дефиницию «название ряда музыкальных инструментов» (СлРЯ, с. 171–172).
Ученые XIX – начала XX в. видели в употреблении лексем с этой основой пережиток языческого сознания. Так, И.Е. Евсеев в своем исследовании о славянском переводе книги пророка Исаии замечает вслед за Ф.И. Буслаевым: «...проскальзывают и у него (переводчика Паримейника. – М. Н. ) понятия дохристианския» [Евсеев, 1897, с. 12]; ср. у Ф.И. Буслаева: «...что гудьба считалась языческим занятием, это видно везде, где наши благочестивые предки упоминают о музыке» [Буслаев, 2005, с. 67]. Очевидно, это не слишком корректное заключение, поскольку отдельные негативные упоминания музыки, музыкантов и музыкальных инструментов в связи с языческими практиками не в состоянии скомпрометировать лексический узус как таковой.
Так или иначе, слово пр э гоудьница , стабильно используемое в паримейной версии, заменялось в четьих и толковых текстах Ветхого Завета на образования п э вьница либо п э сньница (ГБ, л. 3) (см. также: [Евсеев, 1897, с. 117; Михайлов, 1912, с. 185]), очевидно исходя из интерпретации греческого ψαλτήριον как производного от глагола ψάλλω ‘перебирать струны; играть или петь’, с акцентом на семантическом компоненте ‘петь’.
Те же наименования, гоусли (киннор – κιθάρα) и пр э гоудьница (невел – ψαλτήριον), фигурируют в чтении вторника второй недели Великого поста, книга Исаии 5:12: съ гоусль-ми бо и пр э гоудницами. и тоумъпаны и пи-щальми вино пиють (Зах, л. 54; Тр4, л. 19) – греч. μετ N γ N ρ κιθάρας κα r ψαλτηρίου κα r τυμπάνων κα r α š λ § ν τ ’ ν ο q νον πίνουσιν. В Фед данное чтение пропущено, в Лаз сокращено: съ гоусльми бо и ликr вино пиють (л. 28). Присутствие в Лаз словоформы ликr не результат индивидуального решения или порчи текста, поскольку поддерживается южнославянским Белградским списком XIII в.: сь гю(...) бо и лик ликr и пр э гюдницами (л. 17 vb) (Jовановић-Стипчевић, 2005, с. 115). И.Е. Евсеев упоминает форму ликъ в Ис. 5:12 как вариант к пр э гоудьница , ссылаясь при этом на рукопись паримейника XV в. (РНБ,
Q.I.179) [Евсеев, 1897, с. 113], но это вряд ли заменяющий вариант, поскольку Белградский паримейник демонстрирует употребление обоих слов. Возможно, за формой ликы стоит некое чтение древнееврейского или греческого текста, не зафиксированное в стандартных изданиях Ветхого Завета. В древнеславянской книжной традиции существительное ликъ могло обозначать танец-хоровод, хоровое пение, а также хор как собрание поющих (SJS, vol. II, p. 122].
Кроме того, в контексте фигурируют также формы существительных тоумъпанъ (тоф - i v ^nuvov, ударный инструмент, барабан либо бубен) и пищаль (халил - а в л о с, духовой инструмент, флейта). Первая лексема представляет собой заимствование, которое по-разному осваивается в древнеславянских паримейниках и других источниках в графикоорфографическом отношении, ср.: тунъбаны (Тр4, л. 19), тоупанъ , тумбанъ , тимпанъ и т. д. (SJS, vol. IV, p. 566). К разговору о слове пищаль мы еще вернемся в связи со следующей группой контекстов с еще более впечатляющим перечнем музыкальных инструментов.
Речь идет о чтении Великой субботы из третьей главы книги пророка Даниила, где рассказывается о поклонении золотому идолу вавилонского царя Навуходоносора, сопровождаемом игрой на духовых и струнных инструментах (стихи 5, 7, 10, 15). Разноречивые показания древнерусских паримейников удобнее разместить в таблице и затем прокомментировать ее данные (см. таблицу).
Итак, в Дан. 3 налицо уже знакомые нам стабильные греко-славянские параллели, хотя семитские (начальная часть книги Даниила, 2:4–7:28, написана по-арамейски) корреляты отличаются от приведенных в предыдущих чтениях): т у с ааллтл/ос (арамейск. карна) : (гласъ) трубы / трубьныи ; κιθάρα (арамейск. катрос) : гоусли ; ψαλτήριον (арамейск. песан-терин) : пр э (при)гоудьница . Кроме того, в перечнях инструментов появляются новые единицы: a v piYYog (генитив от a a piYt, арамейск. машрокита) ‘флейта’, σαμβύκη (арамейск. саббеха) ‘арфа’, συμφωνία (арамейск. сумпо-нья, заимствовано из греческого) – с неясной семантикой. Именно эти три наименования, повторяясь в стихах 5–15, дают наиболее богатое варьирование в наших источниках.
С одной стороны, все они могут выступать как заимствования с неустойчивым графико-орфографическим обликом: суриггъ (Лаз), соурии (Зах), суригонъ (Тр4); самъвук ¿ и (Лаз), самбоукии (Зах), самбюки (Тр4); соумь-фони (Лаз), соум d онии (Лаз; Зах). Очевидно, это следы наиболее древней переводческой стратегии, для которой, как давно установлено, характерно широкое употребление заимствований (см. об этом, например: [Пе-нев, 1989]).
С другой стороны, перечисленные единицы могут получать во всех источниках славянские эквиваленты: пищаль для a B piY^, пищаль и пискъ для συμφωνία, ц э вьница для σαμβύκη.
То обстоятельство, что слово συμφωνία могло передаваться образованиями с основой писк - (так же, как a u piY^), свидетельствует о восприятии этого инструмента в славянском переводе как духового. Заметим, что основа гоуд- в древнеславянских памятниках систематически ассоциировалась со струнными инструментами, а основа писк- – с духовыми (см., например, соответствующие славяногреческие параллели в контексте из апостольского послания 1Кор. 14:7 (SJS, vol. I, p. 449; vol. III, p. 39).
Толкования термина συμφωνία разноречивы. Он может означать как слаженное звучание пения или инструментального ансамбля, так и звучание отдельного инструмента [Коляда, 2004, с. 137–138]. В сочинениях экзегетов и в переводах на европейские языки συμφωνία могла отождествляться с самыми разными инструментами [Коляда, 2004, с. 139–141]. Интересно, что четьи славянские версии могут интерпретировать συμφω-νία и как ‘согласие’. Ср. варианты съгласны-ихъ (ГБ, л. 600 об.), съгласниць , съгласници ([Евсеев, 1905, с. 32], по Архивскому хронографу (РГАДА, ф. 181, № 279/658, XV в.).
Эквивалент к σαμβύκη – ц э вьница – указывает на восприятие славянами этого инструмента (арфы) как духового, поскольку восходит к общеславянской основе ц э в - со значением ‘полая трубка’ (ЭССЯ, с. 190– 194); этот факт, возможно, отражает общую ситуацию с переводами названий музыкальных инструментов, которые далеко не всегда были точными.
Сопоставление источниковSources’ collations
|
Адрес и греческое чтение |
Лаз, л. 100-100 об. |
Зах, л. 211об.-213 |
Фед, л. 99 |
Тр4, л. 106 об.-107 |
|
Дан. 3:5: OiaV CCKODOT|TS Tf|^ (pcovfji; тт[^ оа1тпууо$, GvpiYyo^. ка1 KtOapa$. oapPoKi^ ка1 храХттуном, (aopcpovia^) Kal Ttavroq yevovc; POVOIKO)V |
ваньжс рода 0уСЛА1ШИТЬ РЛА трувьнА1И. суриггъ же и гоусльмА. САМАвукии же и пртгоудьници. и соумь<£они. и вьсАКОмоу родоу моусикииноу |
ваньжс днь 0уСЛА1ШИТЬ ГЛА троувАГ и роусльмъ. и моусик1и же и пригоудници. и соумдонии. И КСАКОМОу родоу моусикиину |
чтение отсутствует |
вонже днь оуслАниите ГЛАС ТруВА! сурИГОНА 1 гуслемА самбюки! же й прегудници 1 пифАлии i ВСАКОМу роду мусикшну |
|
Дан. 3:7: ка1 £v тф катрф 6ке(уф, бтЕ tjKouaav лаута та e6vt| nj. tpovfjg Tijg aaZnrYY’S- avpiYyo^ те ка1 KiQapag, сарРикцд те ка1 (|/актцр(ои (тт|д avpxpcoviag) ка1 Ttavrdg tjxou pouatKcbv |
И БАКТЬ №ГДА 0уСЛА1ШАША ВЬСИ ЛЮДИК ГЛАСА ТроуВА!. соуриггА же. и ГОусЛЬМА. СДМАВуК1И же и пртгоудьници. и соумдонии. и ВЬСАКОМОу родоу мусикииноу |
И BAI КГДА 0уСАА1ШАША ВСН АЮДИК PAA TpoyEAI. соурии же. и роусьлемА. и сАмвоукии же и пригоудници и ПИСКОМ А. и соумдонии. И ВСАКОМОу родоу мусикииноу |
чтение отсутствует |
Й BAI КГДА 0уСЛА1ШАША ВСИ людые. глас трувА! i гусли i прегудници. 1 САМБЮКИ i ПИфАЛИ. 1 ВСАКОМу роду мусикшну |
|
Дан. 3:10:
Yva TTCt^ ауОртлот 6g av акоиар Tf]g (p |
иже Aipe оуслАнпить ГЛСА ТруБА1 И ПИфАЛЬМА же и гоусльмА цтвьници же и пр^гоудьници. и ПИСК0МА. И ВЬСАКОМОу родоу мусикииноу |
иже Афе оуслА1шить ГЛАС ТроуВА!. ПИфАЛЬМА же и ГОуСАЬМА УТЗВНИЦИ Ж6 и пригоудници . и ПИСКОМ А И ВСАКОМОу родоу моусикиноу |
чтение отсутствует |
иже 0уСЛА1ШИТ ГЛА TpyEAl i rycAei i пифАлемА! прегуднщь! цивниць И ВСАКОМу роду моусикшску |
|
Дан. 3:15: Spa тф &Koijaat rfjg vfjq rife eakjnYYog, avpiYYO? те ка1 KiOapag. aapPvKqg те ка1 <|/a).Tqp(ov (ка1 avpiproviag) ка1 iravTOg tjxou gOUGlKCDV |
да iako оуслАниите ГЛАСА TpoyBAI. ПИфАЛЬМА же и гоусльмА ц^бьници же и пр'Вгоудьници. и ПИСКОМ А. II ВЬСАКОМОу род оу моусикииноу |
ДА 1АК0 оусЛА1ШИТе ГЛА TpOyBAI. ПИфАЛЬМА же и ГОусЛЬМА . И Ц'ЕВНИЦИ . и пригоудници. и ПИСКОМ А И ВСАКОМОу родоу моусикину |
гако оуслАнииТе ГЛА троув'В. пифлли же и гоусли. прегоудницл же И ПИСКА1. и КСАК0Г0 рОДА МОуСИКИИНА |
ДА 1АК0 оуСЛА1ШАСТе. гла трувА! i гуслек i прегудниць. i пифАле! i САМБИКИ Й ВСАКОМу роду мусикшну |
Как именно соотносятся лексические единицы в отдельных стихах Дан. 3? Во-первых, стихи 5 и 7 предпочитают грецизмы, тогда как в стихах 10 и 15 появляются славянские эквиваленты, упомянутые выше. Это мо- жет свидетельствовать о влиянии на Паримей-ник четьего и/или толкового текста (по данным И.Е. Евсеева, именно там присутствуют эти эквиваленты – пищаль, пискъ, цэвьница [Евсеев, 1905, с. 32–36]).
Во-вторых, наблюдаются индивидуальные решения в списках. Так, Зах в Дан. 3:5 не дает эквивалента к форме σύριγγος, а форму аацв^кп^ передает как моусик Т и ; в Дан. 3:7 в той же рукописи налицо двойной перевод т у д auцфюv^аg : пискомъ. и соум д онии , что, вероятно, указывает на синтез паримейной и четьей версий. Тр4 размещает славянские словоформы в ином порядке, нежели их греческие соответствия, ср.:
Дан. 3:10: avpiYyog(1)текш аацв^куд (2), KiQapag (3) ка 1 ^алтррюи (4): гусле i (3) i пища-лемъ (1) i прегуднщь (4) i ц Э вниць (2);
Дан. 3:15: avpiyyog (1) те кш KiQapag (2), аацвикпд (3) те ка 1 ^алтррюи (4) : гусле ! . (2) i прегудниць. (4) i пищале ! (1) i самбики (3).
Последнее обстоятельство, требующее комментария, касается отсутствия в славянских списках тех или иных эквивалентов. Так, в Тр4 нет параллелей к слову συμφωνία в стихах 10 и 15; это, очевидно, связано с его отсутствием в том типе греческого текста, с которым работали создатели архетипа Тр4 (см. различные греческие чтения в: [Евсеев, 1905, с. 32–36], с συμφωνία и без; в нашей таблице формы слова συμφωνία взяты по этой причине в круглые скобки). В Фед отсутствует параллель к греческому σαμβύκης (стих 15), что может быть результатом изменений уже в процессе бытования славянского текста.
На общем фоне Лазаревский список производит впечатление наиболее стабильного в отношении соответствия греческому, что подтверждает его принадлежность к древнейшему типу текста Паримейника.
Названия музыкальных инструментов встречаются еще во многих местах Ветхого Завета, однако здесь мы рассмотрели только те чтения, которые представлены в наших четырех источниках, формирующих подкорпус древнерусских паримейников.
Выводы
Итак, в статье рассмотрены названия музыкальных инструментов в восточнославянских списках Паримейника XII–XIV вв., формирующих соответствующий подкорпус исторического корпуса «Манускрипт», – как отдельные упоминания, так и крупные перечни. Последние дали наиболее показательную картину для сопоставления источников и оценки характера варьирования.
-
1. Наиболее устойчивы греко-славянские лексические параллели σάλπιγξ : труба , ψαλτήριον : пр э гоудьница , κιθάρα : гоусли . Существительное труба , выступая в контексте как единственное название музыкального инструмента, может вовлекаться в те или иные синтаксические отношения, которые по-разному реализованы в славянских источниках. Например, в словосочетании у фюv y т у д σάλπιγγος ‘глас трубы’ форма генитива передается как гласъ трубы , гласъ труб э , гласъ трубьныи .
-
2. Списки Паримейника отражают систематическую для древнеславянской переводной книжности тенденцию перевода названий духовых инструментов образованиями с основой писк -, струнных – образованиями с основой гоуд -.
-
3. Сопоставление чтений позволило выявить ряд индивидуальных моментов, которые могут быть обусловлены различными факторами. Так, паримейное чтение из книги пророка Даниила (3: 5, 7, 10, 15) с четырежды повторяемым перечислением шести музыкальных инструментов, демонстрирует: а) конкуренцию во всех источниках грецизмов и славянских эквивалентов, что указывает на влияние со стороны четьего текста Ветхого Завета; б) пропуск лексической параллели к слову συμφωνία в Тр4, что свидетельствует о зависимости его архетипа от типа греческого текста, в котором это слово отсутствовало; в) трансформацию порядка упоминания лексических единиц в Тр4, что может быть результатом сознательной правки славянского текста.
-
4. В целом можно заключить, что рассмотренный лексический материал подтверждает общий текстологический «расклад» Па-римейника: Лазаревский список из группы древнейшего типа наиболее стабилен, тогда как Троицкий, принадлежавший к Семеновской группе, где проводилась целенаправленная редактура, дает наибольшее число изменений.
Список литературы Названия музыкальных инструментов в древнерусских паримейниках XII-XIV вв. (на материале исторического корпуса «Манускрипт»)
- Алексеев А. А., 2008. Библия в богослужении. Византийско-славянский лекционарий. СПб. : Нестор-История. 268 с.
- Баранов В. А., 2015. Исторический корпус как цель и инструмент корпусной палеославистики // Scripta & e-Scripta : The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies. Vol. 14-15. C. 39-62.
- Буслаев Ф. И., 2005. О влиянии христианства на славянский язык: опыт истории языка по Остромирову Евангелию // Буслаев Ф. И. Исцеление языка: опыт национального самосознания. Работы разных лет. СПб. : Библиополис. 520 с.
- Евсеев И. Е., 1897. Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе. В 2 ч. Ч. 1. Славянский перевод книги пророка Исайи по рукописям XII-XVI вв. СПб. : Печатня С.П. Яковлева. 168 с.
- Евсеев И. Е., 1905. Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. Введение и тексты. М. : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко. 183 с.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение, 1978 / под ред. В. И. Борковского. М. : Наука. 446 с.
- Князевская О. А., 1999. Древнейший список Паремийника (первая половина XII в., РГАДА, ф. 381, оп. 1, N° 50) // Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян : тез. докл. Междунар. науч. конф. (Москва, 23-24 нояб. 1999 г.). М. : Ин-т славяноведения РАН. С. 44-46.
- Коляда Е. И., 1998. Библейские музыкальные инструменты (к проблеме идентификации и перевода) // Альфа и Омега. №№ 4 (18). URL: http:// aliom.orthodoxy.ru/arch/018/018-kol.htm (дата обращения: 23.07.2021).
- Коляда Е. И., 2004. Библейские музыкальные инструменты в музыкальной практике и книжной традиции. Интерпретация библейского инструментария в истории переводов Священного Писания : дис. ... д-ра искусствоведения. М. 361 с.
- Михайлов А. В., 1912. Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. Ч. 1. Паримейный текст. Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа. 460 с.
- Михеев С. М., 2019. Минеи двух Домок: еще раз о писцах служебных миней из новгородского Лазарева монастыря // СловЭне = Slovene. Vol. 8, №2. С. 7-56. DOI: 10.31168/23056754.2019.8.2.1.
- Мольков Г. А., 2020. Формирование орфографических систем в древнерусской письменности XI - начала XIII века : дис. ... д-ра филол. наук. СПб. : Ин-т лингв. исслед. РАН. 494 с.
- Пенев П., 1989. Към историята на Кирило-Методие-вия старобългарски превод на Апостола // Кирило-Методиевски студии. София : Изд-во БАН. Кн. 6. С. 246-317.
- Петров В. В., 2009. Кифара и псалтерий в символической органологии античности и раннего средневековья // Историко-философский ежегодник, 2008. М. : Наука. С. 27-51.
- Пичхадзе А. А., 1991. К истории славянского пари-мейника (паримейные чтения книги Исход) // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М. : Наука. С. 147-173.
- Рибарова З., Хауптова З., 1998. Григоровичев пари-ме]ник. Текст со критички апарат. Скоще : МАНУ 452 с.
- Чевела О. В., 2010. Герменевтика литургической поэзии: лингвистическое исследование. Казань : Казан. гос. ун-т. 346 с.
- Cermak V., 2008. Zu der neueren Erforschung der Übersetzungen des slavischen Parömienbuchs (Zur Edition des Belgrades Parömienbuchs) // Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines. LXVI. S. 333-347.