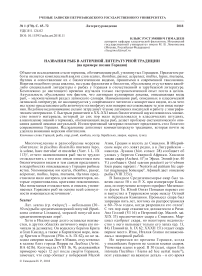Названия рыб в античной литературной традиции (на примере поэзии Горация)
Автор: Гимадеев Ильяс Рустэмович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (170), 2018 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования стали термины, обозначающие рыб, упомянутых Горацием. Предметом работы является комплексный анализ слов scarus, rhombus, passer, acipenser, mullus, lupus, muraena, thynnus и сопоставление их с биологическими видами, принятыми в современной таксономии. Новизна подобного рода анализа, на стыке филологии и биологии, обусловлена отсутствием какой-либо специальной литературы о рыбах у Горация в отечественной и зарубежной литературе. Комплексно до настоящего времени изучался только гастрономический опыт поэта в целом. Актуальность обусловлена тем фактом, что латинская кулинарная лексика, описывающая виды рыб, - малоизученный раздел латинского словаря. Наименования рыб, описанных в классической латинской литературе, не ассоциируются у современного читателя с конкретным видом, из-за чего мы плохо представляем себе античную ихтиофауну или неверно истолковываем те или иные названия. Подобное недопонимание сильно затрудняет чтение латинских писателей и работу с эпиграфическим материалом. С быстрым развитием в XX-XXI веках биологической науки появилось множество нового материала, который до сих пор мало использовался в классических штудиях, а накопление знаний о терминах, обозначающих виды рыб, делает проблему систематического описания данной лексики актуальной. Иллюстративный материал помогает представить стол богатого современника Горация. Исследование дополняет комментаторскую традицию, которая почти не уделяла внимания морским обитателям.
Гораций, рыба, скар, ромб, камбала, осетр, барабулька, лаврак, мурена, тунец
Короткий адрес: https://sciup.org/14751284
IDR: 14751284 | УДК: 811.124.02 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.11
Текст научной статьи Названия рыб в античной литературной традиции (на примере поэзии Горация)
Многочисленны и разнообразны морские обитатели: in piscibus dissimilis muraena lupo, is soleae, haec merulae1 et mustelae (Varr. l. L. IX 113)2, отчего наименования рыб часто трудно отождествить с тем или иным известным нам биологическим видом и тем самым представить в подробностях описываемые у Горация рыбные яства. Упоминаемые им scarus, rhombus, passer, acipenser, mullus, lupus, muraena, thynnus представляли мало интереса для комментаторов, которые ограничивались краткими пояснениями. Мы попытаемся отождествить и описать упоминаемых Горацием рыб на основе всей совокупности имеющихся источников3.
Scarus4
Лат. scarus (гр. σκάρος5) – небольшая (30– 50 см) рыба: средиземноморский попугай (Sparisoma cretense Linnaeus), морской попугай или средиземноморская лора6.
Хотя в Италии скар долго оставался неизвестен, в других областях античного мира его почитали за деликатес. Он водился у берегов Крита и близ Киклад, а также в Карпатском море, между Критом и Родосом (Plin. n. h. IX 62), но не заходил севернее мыса Лект в Мисии, отсутствовал в заливе близ города Пирры на Лесбосе (Arist. HA 621b). Колумелла (VIII 16, 9), родившийся примерно через 12 лет после смерти Горация, замечает, что скар обитает у побережий Малой
Азии, Греции и вплоть до Сицилии. В Иберийском море его ловят редко, а в Лигурийском – никогда. Лукиан (hist. conscr. 28) сообщает об уловах у берегов Северной Африки. Хвалили также скара (Archest. 417) в Эфесе. Энний (var. 40 V.) сообщает: Quid scarum praeterii ce
В Западное Средиземноморье скар был завезен около 50 г. по Р. Х. при императоре Клавдии, по поручению которого префект Мизенско-го флота Ти. Юлий Оптат Понциан перевез его и выпустил в Тирренском море между Остией и побережьем Кампании. Промысел скара был запрещен пять лет, поэтому он распространился к 60–70-м годам, когда разрешили его отлов9. С тех пор скар становится деликатесом в Риме. Авл Геллий (VI 16) и Петроний (ap. Macrob. sat. XIX 33) предпочитают скара с Сицилии. Марциал одобряет скара, но некоторое недовольство у него вызывает только его запах (ep. 13, 84). Плиний (n. h. IX 62; XXXII 151) отдает скару первое место. Итак, Италия близко познакомилась с заморской рыбой.
Но вернемся во времена Горация, когда у италийских берегов не ходили косяки скаров. Упоминая scarus в epod. II 50 (scari, siquos Eois intonata fluctibus / hiems ad hoc uertat mare10), поэт указывает на важную деталь – в его время
подавали скара, только если тот случайно оказывался в сетях. Следовательно, скар был еще редкой рыбой; даже по прошествии многих лет Петроний, умерший в 66 году, совсем незадолго до распространения скаров в Италии, вторит (Petr. 93, 2, 5-6) Горацию, подтверждая, что эта рыба могла быть только случайным гостем на пиру. Также Порфирион (ad l. c.) объясняет, что скары водились только на востоке и едва ли можно было поймать скаров, если их не принесло сильной бурей: Intellegi uult scaros pisces in orien-tali mari esse, et difficile fieri, ut circa Italiam capi-antur, nisi quos inde uiolentia tempestatis adduxerit11. Читая сатиры (II 2, 22), мы уже не сомневаемся в том, что перед нами изысканное угощение, потому что упоминается оно вместе с устрицами (ostrea) и белой куропаткой (lagois): tu pulmentaria quaere / sudando: pinguem uitiis albumque neque ost-rea / nec scarus aut poterit peregrina iuuare lagois12.
Rhombus13
Rhombus (нар. форма rumbus: schol. Cornut. ad Iuu. 4, 34; гр. ῥ όμβος14 или ψ ῆ ττα). Встречаются и другие обозначения камбаловидных рыб: piscis planus, solea15 (βούγλωσσος), passer (στρουθός16), citharus (к^6apo^), е ахаро^17. Насколько точно латинскому термину соответствует гр. р орво^, неизвестно. Афиней (VII 330b) сообщает: Ῥ ωμα ῖ οι καλο ῦ σι τ ὴ ν ψ ῆ τταν ῥ όμβον [римляне называют «камбалу» ромбом].
Рыба-ромб Горация может соответствовать гладкому ромбу (Scophthalmus rhombus Linnaeus) или большому ромбу (Scophthalmus maximus = Psetta maxima Linnaeus). Оба вида принадлежат к семейству Scophthalmidae отряда камбалообразных (Pleuronectiformes). У взрослых особей камбалообразных глаза смещены на одну сторону, при этом в Средиземном море не распространены рыбы с глазами на правом боку. Scophthalmus rhombus и Scophthalmus maximus, наоборот, имеют зрительный орган с левой стороны. Scophthalmus maximus достигает метра в длину и веса 25 кг, Scophthalmus rhombus – 75 см и 8 кг.
Скорее всего, rhombus римляне называли любую камбаловидную рыбу, напоминающую ромб своими очертаниями18. На такую мысль наводят слова Плиния (n. h. XXXII 146) о том, что кифар19 есть наихудший вид ромбов. Однако rhombus не следует переводить и словом «камбала» (Pleu-ronectes platessa Linnaeus), потому что последняя мало распространена в Средиземноморье и обитает больше на севере20. О размерах ромба стоит упомянуть отдельно. Рыбак, не дерзнув продать или съесть такое диво, приносит в дар огромного ромба Домициану, который созывает государственный совет, потому что ромб был столь велик, что не смогли найти для него подходящего блюда (Iuu. 4, 39 sqq.). Если бы рыбак сам не подарил огромную рыбину цезарю, на него, скорее всего, донесли бы (Iuu. 4, 48 sq.), рыба-де кормилась в домициановых садках, а потом сбежала, отчего ее нужно вернуть господину (Iuu. 4, 49-52). Похожий образ рисует Марциал, у которого ромб также шире блюда (Mart. XIII 81), а в другой эпиграмме находим строки о разведении домашней рыбы в прудах, благодаря чему даже в бурю стол не скудеет ею (Mart. X 30, 21; cf. Colum. VIII 16, 7; 17, 9).
Гораций упоминает ромба в числе изысканных яств вместе со скарами и моллюсками из Лу-кринского озера (epod. II 50), вместе с павлином, повторяя свою излюбленную мысль о том, что голодному человеку достаточно простой пищи (sat. I 2, 116). Фунданий, описывая пир у Нази-диена, вспоминает, как его потчевали брюшками палтуса и ромба (sat. VIII 29 sq.). Обжорам же, из-за чрезмерного пресыщения деликатесами и, как следствие, расстройства желудка, и кабан, и свежий ромб кажутся протухшими (sat. II 2, 42 sq.). Морские просторы всегда давали пищу ромбам, утверждает поэт (sat. II2, 48), но в прежние времена римляне довольствовались малым и не стремились к излишествам. Ромбам и аистам в своих гнездах ничего не угрожало, пока некий auctor praetorius (sat. II 2, 49 sq.) не приучил к ним гастрономов. Псевдоакрон (ad sat. II 2, 50) под auctor praetorius понимает либо некоего Азеллия, бывшего претором, который ввел обычай поедать аистов (и, по-видимому, ромбов, хотя прямо схолиаст об этом не говорит), либо, со ссылкой на Порфириона, претора Семпрония Руфа, примеру которого поедать птенцов аистов последовало утонченное общество. В выражении grandes rhombi мы находим недвусмысленное подтверждение огромных размеров ромбов, которых выносят на блюдах (sat. II2, 95). Хозяину, по мнению поэта, должно быть стыдно за подобные излишества, а непомерные цены на таких великанов неизбежно принесут разорение.
Passer 21
Passer (атроиОб^22) - еще один представитель камбаловидных рыб. Элиан (XIV 3) упоминает рыбу στρουθός, которую принято отождествлять с passer и переводить «камбала», подразумевая морскую камбалу (Pleuronectes platessa Linnaeus). Однако, как было уже отмечено, морская камбала мало распространена в Средиземном море, что доказывают Д. Льеонарт и Г. Фарруджио. Они полагают, что все античные упоминания passer и других плохо отождествляемых камбаловидных (к последним никак не относится вполне понятный нам ромб) следует связывать с Platichthys flesus Linnaeus, то есть с речной камбалой. Platichthys flesus и Pleuronectes platessa родственны, но имеют разные повадки, окрас и среду обитания. Речная камбала размножается в море, но обитает большую часть времени в солоноватой или пресной воде, достигая 50 см и 3 кг.
Позволим себе считать passer речной камбалой. Гораций упоминает ее один раз в процитированном месте о подаче рыбных брюшек или потрошков, когда Фунданий, перечисляя Горацию разнообразные блюда, поданные у Нази-диена, говорит: cum passeris atque ingustata mihi porrexerit ilia rhomb (sat. II 8, 29) 23 . Кисслинг24 метко замечает, что Гораций использует для не-испробованного блюда ἅ παξ λεγόμενον ingustata, что создает красивую игру смыслов.
Acipenser25
Род осетры (Acipenser Linnaeus), насчитывающий 19 видов26, и род белуги (Huso Brandt), представленный собственно белугой и калугой, относятся к семейству осетровых (Acipenseridae Bonaparte) из отряда осетрообразных (Acipenseri-formes Berg).
Очень подробно слово acipenser у Плиния комментирует Салмазий27. Старательно разо-брав отличительные черты осетровых: sturio28, acipenser, (h)elops, ὀ ξύ ῤῥ υγχος29, он постарался дать соответствия в греческом языке. Архестрат (Athen. VII 294f) полагает, что родосская акула - это та самая рыба, которую у римлян подают под звуки свирелей в венках, и называет ее ἀ κκιπ ή σιος. Однако ему тут же возражают, объясняя, что рыба ἀ κκιπ ή σιος меньше, имеет более вытянутый нос и скорее походит на треугольник (Athen. ibid.), при этом самые маленькие рыбки стоят не меньше 1000 аттических драхм. Ссылаясь на грамматика Апиона, Афиней (ibid.) пишет, что d KKin q aio^ есть то же самое, что е ХХоу, последнее соотносится с указаниями авторов на распространение ἔ λλοψ близ о. Родос (Plin. IX 169: elops Rhodi; Varr. r. r. II 6 2: helops ad Rhodon), ничего однако не доказывая.
Слово acipenser употребляется очень редко, но при этом всегда о деликатесе, который уже со времен Плавта был хорошо известен (Plaut. fr. Bac.) и считался благородной морской (Plin. n. h. XXXII 145; cf.: Cic. fat. fr. 5) рыбой. Если кого-нибудь из близких коснулось горе, ему скорее нужно предложить сократическое сочинение, нежели осетра (Cic. Tusc. III 43). В I в. по Р Х. осетр уже не в чести, что вызывает изумление у Плиния Старшего, ведь он так редко встречается (n. h. IX 60), с чем согласен Цицерон, описывая подачу осетра Сципиону (de fat. fr. 5). Марциал употребляет редкую форму acipensis30, предлагая отправлять его на столы богачей, живущих на Палатине, пускай, мол, это редкое подношение послужит украшением амброзийской трапезе (Mart. XIII 91). О сравнении acipenser с (h)elops ( е ХХоу31) Плинием высказываются разные точки зрения. В одном месте мы находим высказывание о том, что некоторые отождествляют двух рыб (Plin. n. h. IX 60), в другом - что данное сравнение недопустимо, так как, согласно Овидию, (h)elops не водится в наших водах (Plin. n.h.
XXXII 153), из чего явствует, что acipenser как раз в водах Средиземного моря был распространен, и это не входит в противоречие со строкой, где Овидий подчеркивает, что осетр особенно распространен в чужих морях (Ou. halieut. 134). Последнее вовсе не обозначает его отсутствия в Средиземноморье.
Считается, что acipenser ( ἀ κκιπ ή σιος, скорее всего, передача формы acipensis Mart.) - это атлантический осетр (Acipenser sturio Linnaeus) и ему соответствует ἔ λλοψ32. Севрюге (Acipenser stellatus Pallas) и другим видам из рода Acipenser, которые обитали и обитают в реках, впадающих в Черное море, соответствует ἀ ντακα ῖ ος, которого солили и отправляли в другие области греческого мира33.
Гораций, вспоминая времена Луцилия, который громил глашатая Галлония за излишества в еде (Cic. fin. II 8, 25), рассказывает о том, как сервируют осетра: haud ita pridem / Galloni prae-conis erat acipensere mensa / infamis (sat. II 2, 47)34. Схолиасты сходятся в том, что Галлоний первым предложил сотрапезникам отведать редкую рыбу. Отождествляя рыбу, упомянутую у Горация, с Acipenser sturio, нужно представлять на столе самого крупного из существующих осетров, длина которого достигала 6 метров. Очень редко в реках Италии также можно встретить адриатического осетра (Acipenser naccarii), а в Адриатическом и Эгейском морях севрюгу (Acipenser stellatus). Последние два вида гораздо меньше, но и они могли присутствовать на римских пиршествах.
Mullus35
Античный mullus - обыкновенная султанка (Mullus barbatus Linnaeus: подвид Mullus barbatus barbatus – рыба длиной 20–30 см весом до 680 г) и средиземноморская султанка (Mullus surmuletus Linnaeus длиной до 40 см и весом до 1 кг)36. Римские писатели почти не различают два вида барабульки, для них самым главным был их размер и место, где она была выловлена. Больше за особенную питательность и особый вкус (Hippocr. Alim. 485 13-17) ценилась крупная рыба, поэтому предполагают, что античную классификацию, основанную на различных вкусовых ощущениях и размере рыбы, можно соотнести с современным разделением у зоологов на Mullus barbatus и Mullus surmuletus37. Все виды барабулек имеют окрас от бледно-розового до оранжевого, при этом, испытывая волнение, они способны усиливать интенсивность цвета (Plin. n.h. IX 66, Sen. nat. quaest. III 18, 4 sq.)38. Овидий, описывая барабульку, называет ее цвет как tenui sanguine (Ou. halieut. 123).
Латинскому mullus соответствует τρίγλη39. Свою популярность у греков рыбка завоевала в эпоху поздней республики и империи40. Афи-ней подробно (Athen. VII 324c-325f) говорит об этимологии τρίγλη, описывает ее особенности и повадки.
Римляне часто придавали крупной барабульке большое значение, на что сетует Ювенал, упоминая рыбину за 6000 сестерциев (Iuu. 4, 15 sq.), и дает совет не покупать такую рыбу, когда деньги есть только на пескаря (Iuu. 11, 37: gobius). Тиберий вынужден был издать законы против роскоши, когда прослышал о непомерных ценах на коринфские вазы и о трех барабульках, купленных за 30000 сестерциев (Suet. Tib. 34, 1). Непомерные султанки (immodici mulli) покрывают золоченые блюда Кандида (Mart. II 43, 11), красоту которых не пристало портить барабулькой меньше двух фунтов (Mart. XIV 97, 1), а Кал-лиодор продал раба за 12000 сестерциев, чтобы поставить на стол всего-то одну барабульку в четыре фунта (Mart. X 31, 3). При императоре Гае консуляр Азиний Целер истратил 800041 сестерциев на одну рыбку (Plin. n.h. IX 68). Нашлись бы горячие головы, готовые выложить 80 фунтов золотом за фантастическую барабульку того же веса, выловленную в Красном море (Plin. n.h. IX 68).
Краснобородка редко вырастает больше двух фунтов даже в садках (Plin. n.h. IX 64; о ее искусственном разведении Mart. X 30, 24)42. Более крупные особи встречаются в северо-западной части [Атлантического океана] (Plin., ibid.). Хорошо проиллюстрирован известный нам донный образ жизни краснобородки. Она питается водорослями, улитками, тиной и мясом других рыб (Plin., ibid.). Краснобородка, питающаяся илом (lutarius), и та, что живет у берега, ценится невысоко, но мясо прочих, самых ценных рыбин напоминает по вкусу моллюсков (Plin. n.h. IX 64). Несколько рецептов приготовления барабульки сохранил Апиций: он предлагает жарить ее со спаржей на сковороде со сладкими напитками passum и mulsum (Apic. IV 2, 22) и готовить разные соусы к ней (Apic. IX 10, 9; X 1, 11 sq.). Не забывает об известном кулинаре и Плиний, упоминая его изобретение, sociorum garum («союзнический гарум»), в котором следует морить (necari) краснобородок (Plin. n.h. IX 66), и галекс (ālēc, (h)allēc, (h)allex) из печени этой рыбы43.
Гораций упоминает trilibrem44 mullum (sat. II2, 34), то есть барабульку весом почти в килограмм, хотя Марциал почитал за роскошь подать даже двухфунтовую (Mart. III 45, 5; XI 49, 9), упомянув, впрочем, и трехфунтовую (Mart. X 37, 7 sq.), а в другом месте рыбу в четыре фунта (Mart. X 31, 3) как знак непозволительной роскоши, которая только приводит к болезням (Mart. XI 48, 9). Гораций порицает человеческую глупость и жадность. Прельщенный размерами и ценой султанки старается раздобыть ее, чтобы показать гостям свое богатство, не думая, что вскоре вынужден будет разделить ее на части, хотя мог бы купить лаврака (Hor. sat. II 2, 36), который гораздо больше, а стоил, по-видимому, дешевле. Излюбленный в Риме деликатес мало интересовал Горация, поэтому mullus у него встречается только один раз.
Lupus 45
Лаврак (Dicentrarchus labrax Linnaeus), а именно с ним отождествляют lupus, принадлежит к семейству Мороновых (Moronidae), роду Dicen-trarchus (сибас от англ. sea bass, морской волк)46. Достигает 103 см в длину, вес доходит до 12 кг, но обычно не превышает 50 см.
Греки называли морского волка Хавра^47, откуда происходит одно из наших названий. Встречается также ἀ καρνάν48 (= ἀ κάρναξ∙Hsch.), которую тоже отождествляют с Хавра^. Скорее всего, подразумевается рыба из Акарнании, то есть региональное название лаврака49. Сюда же относится форма ἀ χάρνα, чему в латинском соответствовало ac(h)arna50, acernia51.
Афиней подробно описывает лаврака (Athen. VII 310e-311e) и приводит мнение Аристотеля о том, что эта хищная рыба нерестится в реках зимой (Arist. HA 543b; cf.: 591a, 610b), что можно соотнести с современными данными: сегодня считается, что Dicentrarchus labrax нерестится зимой раз в год, а на юге иногда весной. Рыба обладает не только хорошим вкусом, но и смекалкой, когда речь идет о спасении, поэтому Аристофан называет ее умнейшей из всех рыб (Kock I 543) и считает, что лучших лавраков ловят близ Милета (Aristoph. equit. 361 cum schol.), в чем с ним согласен Архестрат (Archestr. H 45 Brandt), а особенно вкусна его голова (Kock I 487; Kock II 204; Lucil. 1176 Marx). Лавраки из Милета явно славились, из-за их прожорливости даже появилось выражение λάβρακες Μιλήσιοι, обозначавшее жадных людей. Лавраков принято было подавать целиком, слегка обжарив (Archestr. H 45 Brandt).
Римляне любили больше так называемых lupi lanati, то есть «мягких как шерсть» лавраков, за белизну и нежность мяса (Plin. n. h. IX 61). Высоко ценился также лаврак, выловленный между мостами в Риме, что описывает не только Гораций, но и многие другие авторы (cf.: Plin. n. h. IX 169; Macrob. sat. III16, 16; Colum. VIII16), однако у нас нет четкого понимания, о Свайном ли и Фабрициевом мостах идет речь или о Свайном и мосте Цестия (sat. II 2, 31: unde datum sentis, lupus hic Tiberinus an alto / captus hiet? pontisne inter iactatus an amnis / ostia sub Tusci?52). Титий, современник Луцилия, предвосхищает слова Горация, спрашивая в недоумении, почему предпочитают лаврака (lupum germanum), пойманного между двух мостов. Таким образом, обитая возле Тибрского острова, рыба жила совсем недалеко от места, куда выходила cloaca maxima, где прекрасно себя чувствовала, поедая нечистоты. Ювенал описывает подачу рыбы, которая разжирела, питаясь в клоаке (Iuu. 5, 104–106).
Гораций продолжает укорять сибаритов, нахваливающих неестественно огромных барабулек в три фунта весом, за которых отдают до 12000 сестерциев53, и пренебрегающих лавраком (sat. II 2, 36: ducit te species, uideo: quo pertinet ergo / proceros odisse lupos?54), чьи естественные размеры достаточно внушительны, но едва ли привычный местный продукт может так дорого стоить и вызывать восхищение у гостей.
Muraena55
В Средиземном море из семейства Muraenidae рода Muraena обитает только европейская мурена (Muraena helena Linnaeus)56. Достигает 150 см в длину, а вес 6,5 кг, но обычно размеры не превышают 80 см.
Латинское muraena заимствовано из греческого p.vpaiva57, существовал также термин fluta, согласно OLD восходящий к пХыт^58, которым обозначали самых лучших мурен (Varr. r. r. II 6, 2; cf. ap. Macrob. III 15, 8; Colum. VIII 17, 8). К Colum. VIII 17, 8 существует чтение plautas вм. flutas.
Томсон полагает, что под muraena, которую разводили в садках, можно понимать миногу, а Хиггинботам, по мнению Дадли, ошибочно понимает под muraena угря (англ. eel), который принадлежит к другому роду Anguilla Schrank, и дает к слову muraena, по его мнению, синонимы – anguilla и conger (γόγγρος59). Этими тремя терминами он обозначает рыбу, которую разводили в прудах, и считает muraena наиболее общим словом. Таким образом, согласно Хиггинботаму, словом muraena в античности могли обозначать рыб разных семейств отряда Угреобразные60, то есть рыб семейства Muraenidae, куда относится европейская мурена; род рыб монотипического семейства (Anguillidae Rafinesque) речных угрей (Anguilla Schrank) и различных рыб семейства конгеровых, или морских угрей (Congridae Kaup), а кроме того, миног (Petromyzontida Bonaparte). Хиггинботам даже называет конкретный вид последних (Petromyzon marinus Linnaeus). Хотя по античным представлениям для muraena родными водами было Тартесское море61 и Карпатское, но она хорошо себя чувствовала и в других водах (Colum. VIII 16, 10), ловили ее, к примеру, на Сицилии (Iuu. 5, 99–102; Mart. XIII 80, 1–2), что, по мнению Хиггинботама, иллюстрирует попытку древних объяснить необычайно сложные пути миграции речного угря (Anguilla anguilla62).
Вслед за Дадли мы, анализируя Афинея (VII 312b-e), полагаем не вполне уместным отождествлять muraena с морскими и речными угрями, а также миногами. Феофраст (ap. Athen. VII 312b–c) отличает μύραινα и ἔ γχελυς (по-видимому, речной угорь), а Гикесий (ap. Athen. VII 312c; cf. Epich. ibid.; Archestr. fr. 16-18) дает прямо современную классификацию, разделяя угреобразных на μύραινα, ἔ γχελυς и γόγγρος (морской угорь). Подобное мы находим и в латинском материале
(Plaut. aul. 398-399; Persa 110-111: conger и mure-na). Плинию хорошо было известно о существовании muraena, conger и anguilla (Plin. n. h. IX 73–77).
Гай Гиррий, первым построив садки для мурен, предоставил для празднования триумфа Юлия Цезаря безвозмездно шесть тысяч мурен. Его вилла приносила такой большой доход, что стоила четыре миллиона сестерциев (Plin. n. h. IX 171). В I в. по Р Х. в рыбных садках с пресной водой стали разводить уже не только кефаль (mugil) и скара63, но и таких морских рыб, как мурена и лаврак (Colum. VIII 16, 1), по всей видимости, массово. Когда на море неспокойно и рыбак не может привезти свой улов, богатый хозяин спокоен - в бассейнах живет ромб и лаврак, к распорядителю (ad magistrum) плывет delicata murena, а номенклатор кличет кефаль (mugil) (Mart. X 30, 23). Ведий Поллион приучал своих мурен к человеческой крови, а затем в наказание бросал к ним провинившегося раба (Sen. de clem. I 18, 2). Красс также горько оплакивал свою домашнюю мурену, как Домициан своих трех жен (Plut. de soll. animal. 976a), рыдал о своей мурене и оратор Гортензий (Plin. n. h. IX 172), а дочь Друза украсила свою мурену серьгами (ibid.).
У Горация речь идет как раз о домашних муренах, выращенных в садках: fertur squillas inter murena natantis / in patina porrecta. sub hoc erus “haec grauida” inquit / “capta est, deterior post partum carne futura (sat. II 8, 42–44)64. Нерест мурены очень плохо изучен, так как она нерестится вдали от берега. Однако здесь не может быть описан угорь, который умирает после нереста, что опять же свидетельствует против мнения Хиггинботама об использовании термина muraena для обозначения всех угреобразных рыб. В данном пассаже упоминается именно Muraena helena.
Thynnus 65
В семействе скумбриевые (Scombridae) выделяется триба Thunnini Starks, куда включены 15 видов тунцов, относящиеся к 5 родам. Атлантическую пеламиду (Sarda sarda Bloch), относящуюся также к скумбриевым, но из трибы Sardini Jordan, также отождествляли с тунцом (Arist. HA 571a 11). Самый большой представитель трибы Thunnini – обыкновенный тунец (Thunnus thynnus Linnaeus), до 4,6 м в длину и 684 кг. А относительно небольшая пеламида, до метра длиной, по представлениям древних – молодая особь тунца: из небольшой πηλαμύς или 0uvvlg вырастал взрослый 00vvog, который, приобретая гигантские размеры, получал название κῆτος (Sostr. ap. Athen. VII 303b, c; cf. Plin. n. h. IX 47-48; к^тод: Archestr. ap. Athen. VII 301f). Лат. thynnus (thun-) от гр. 0vvvog. Дадли также выделяет пеламид, обозначавшихся amia66 (от ἀμία67) и πηλαμύς68, и классифицирует по биологическим видам. Длинноперого тунца (Thunnus alalun-ga Bonnaterre), по Дадли, именовали αὐλωπίας и θυννίς69; обыкновенного, или синего тунца (Thunnus thynnus Linnaeus) - 00vvog, opKuvog (от ὄρκυς70). Мальки тунца назывались (σ)κορδύλη (Arist. HA 571a 16), cordyla (Plin. X 47). Древние полагали, что θύννος происходит от θύειν, потому что он неистовствует в сетях, однако современные этимологи возводят к евр. tannin, что обозначало большое морское животное, кита или акулу71.
Тунец - морская рыба (Anan. ap. Athen. VII 282b), вес которой доходит до 15 талантов (Plin. n. h. IX 44), рубленную ее жарят (Athen. VII 295d, 330c), иногда смазав маслом (Athen. VII 303e), особенно предпочитая брюшки (ibid. 302d-f; 304a) и пренебрегая часто любимой у нас сейчас головой (ibid. 303a). Помимо брюшек хороша шея (ceruix), а остальная туша идет на засолку, и куски ее называют melandrya, при этом из-за отсутствия жира части у хвоста ценятся меньше, чем куски, расположенные ближе к пасти (Plin. n. h. IX 48). Изысканную (Hippon. 36+37 D) рыбу 0uvvlg, подобную своей красотой и видом бессмертным богам (φυὴν καὶ εἶδος ὅμοια), которую еще представляли самкой тунца, может испортить уксус (ibid. 303f). Апиций предлагает рецепт соусов к пеламиде и тунцу (IX 10, 9; X 2, 10; 11). Рассол, в котором солили тунца, мог сам служить приправой (Mart. X 48, 12: Et madidum thynni de sale sumen erit72).
Тунец у Горация упомянут иносказательно. В sat. II 5 Улисс обращается к предсказателю Тиресию с вопросом, как вернуть потерянное состояние (res amissas). Тересий без обиняков (ambagibus missis) предлагает Улиссу добиваться завещаний одиноких стариков, окружая их лестью и заботой, или следить, не захворал ли у кого сын, чтобы также попасть в завещание. Выражение plures adnabunt thynni et cetaria cres-cent73 (Hor. sat. II 5, 44) - метафора приобретения богатства. Тунцы поплывут к Улиссу, то есть он разбогатеет, если будет усиленно хлопотать за одинокого богача, которого призвали к ответу на суде по какому-либо делу.
Встречающиеся у Горация деликатесные рыбы подчеркивают высокий социальный статус пирующих, оставаясь недоступными большинству римских граждан, современников Горация. Перечисляя редкие виды, поэт следует античной традиции описания окружающей фауны и демонстрирует этим свою эрудицию. Сопоставление рыб с биологическими видами, известными в современной таксономии, и иллюстрации дают возможность составить представление о яствах, присутствующих на столе поэта и его современников, и тем восстановить лакуны в комментаторской традиции.
Barcelona, 2012. P. 141–147.
Список литературы Названия рыб в античной литературной традиции (на примере поэзии Горация)
- Дуров В. С. Гастрономический опыт Горация//Мнемон XIV. СПб., 2013. С. 301-312.
- Нельсон Д. С. Рыбы мировой фауны: Пер. с 4-го англ. изд. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 876 с.
- Andrews A. C. The Roman Craze for Surmullets//The Classical Weekly. 1949. Vol. 42. No 12. P 186-188.
- Bullock A. Lo Scarus degli antichi: La storia dello Sparisoma cretense nel I secolo d.C. Il Mare. Com’era//Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero. Chioggia. 2006. P. 94-104.
- Dalby A. Food in the ancient world from A to Z. London; New York, 2003. 408 p.
- Guasparri A. Acipenser//Glotta. 76 Bd. 2000. P. 50-52.
- Higginbotham J. Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. Chapel Hill; London, 1997. 285 p.
- Horatius Quintus Flaccus: Opera. ed. Stephanus (= Istvan) Borzsak, Leipzig: Teubner, 1984. 362 p.
- Keller O. Die antike Tierwelt. 2. Bd. Leipzig, 1909-1913. 617 p.
- Kiessling A., Heinze R. Q. Horatius Flaccus. 2. Bd. Dunlin; Zürich; Hidesheim, 1977-1984. 248 p.
- Lleonart J., Farrugio H. Pleuronectes platessa, a ghost fish in the Mediterranean Sea?//Scientia Marina. Vol. 76 (1). Barcelona, 2012. P. 141-147.
- Salmasius C. Plinianae exercitationes in C. Iulii Solini Polyhistora. Parisiis, 1629. 1367 p.
- Solopov A. S. Ad Varronis de lingua Latina libri IX pericopes 113 crucem interpretum adnotatio critica (de piscibus a Varrone tractatis)//Индоевропейское языкознание и классическая филология XVII (чтения памяти И. М. Тронского). СПб., 2013. С. 831-832.