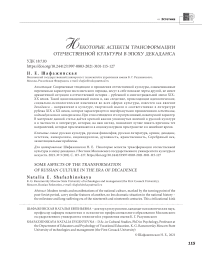Некоторые аспекты трансформации отечественной культуры в эпоху декаданса
Автор: Шафажинская Наталья Евгеньевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 3 (101), 2021 года.
Бесплатный доступ
Современные тенденции и проявления отечественной культуры, ознаменованные переломным характером постсоветского периода, несут в себе похожие черты другой, не менее драматичной ситуации в отечественной истории - рубежной и многострадальной эпохи ХIХ-ХХ веков. Такой цивилизационный излом, и, как следствие, происходящие идеологические, социально-психологические изменения во всех сферах культуры, известен как явление декаданса - направления в культуре, творческой мысли и, соответственно, в литературе рубежа XIX и XX веков, которое характеризуется подчёркнутыми проявлениями эстетизма, индивидуализма и имморализма. При этом очевиден и его прогрессивный, новаторский характер. В материале данной статьи даётся краткий анализ упомянутых явлений в русской культуре, и в частности в литературе, которые, на наш взгляд, позволяют лучше понять причины тех направлений, которые прослеживаются в социокультурном пространстве и сегодня.
Русская культура, русская философия, русская литература, кризис, декаданс, эстетизм, имморализм, индивидуализм, духовность, нравственность, серебряный век, экзистенциальные проблемы
Короткий адрес: https://sciup.org/144162105
IDR: 144162105 | УДК: 18:7.03 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-3101-115-127
Текст научной статьи Некоторые аспекты трансформации отечественной культуры в эпоху декаданса
Актуальность и проблема данной статьи заключаются в выявлении роли декаданса (фр. décadent – ‘упадочный’) в социокультурной жизни общества, некоторых психологических аспектов этого феномена и в попытке ответить на вопрос: является ли он упадническим стилем, эстетика которого состоит в деструктивном, разрушительном характере, или неизбежным и многоуровневым явлением, вытекающим из иного мироощущения и прокладывающим пути к новой системе восприятия духовно-нравственных и художественно-эстетических ценностей.
Декаданс – явление, которое возникает в умонастроениях людей в переломный момент исторического развития общества, когда они находятся в поисках новых духовных ориентиров, и которое воплощается впоследствии в художественных образах, содержащих свою уникальную эстетику. Это направление изначально получило развитие в связи с актуальной новизной идей и форм во Франции, а далее распространилось по всей Европе. Его приверженцы утверждали оригинальный, экстравагантный стиль в литературе, изобразительном искусстве, создавая новые авторские модели, далеко выходящие за рамки тра- диций, благодаря чему считались эпатажными и скандальными. Пришедший в Россию и ярко проявившийся на русской почве декаданс позиционировал себя как серьёзное явление духовно-эстетического порядка, рождение которого было неизбежно, так как было обусловлено всем ходом историко-культурного процесса.
Декаданс не просто художественное течение, культивируемое определённой группой творческих личностей, ищущих новые пути в развитии искусства, а явление, порождённое общественным сознанием, упаднические настроения которого явились результатом крайних мер преобразования социального устройства, связанного с начавшейся индустриализацией, сменой классовости в попытке ускорения и упрощения жизни. Процессы массовизации во всех социальных сферах привели к немедленной реакции носителей высокой культуры против такого сценария развития общества. Декаданс стал выражением протеста, открыв тем самым поиски новых путей развития искусства.
В России декаданс появился на рубеже двух эпох и оказался выражением острейших социальных и духовных противоречий. Он стал начальной, неотъемлемой частью
Серебряного века, истоком модерна, а впоследствии – катализатором новых авангардных течений, радикально отличавших- ся от классического искусства, литературы, философско-религиозной мысли.
Понятие «декаданс» в русской культуре связано с именем И. Э. Грабаря, который отмечал, что «словечко это стало обиходным только в середине 90-х годов. Заимствованное у французов, где поэты-декаденты противопоставляли себя парнасцам, оно впервые появилось в России в фельетоне моего брата Владимира “Парнасцы и дека-данты”, присланном из Парижа в “Русские Ведомости” в январе 1889 года. Несколько лет спустя тот же термин, но уже в транскрипции “декаденты” был повторен в печати П. Д. Боборыкиным и с тех пор привился. “Декадентством” стали именовать все попытки новых исканий в искусстве и литературе» [3].
В своей книге «Уединённое» В. В. Розанов рассуждает о смысле появившихся некоторых «новых слов», среди которых упоминается «декадент» как вариация некоего психологического отклонения, «болезни духа» [9]. Уже в конце 1890-х годов появляется термин «упадничество» в качестве русского аналога декадентства.
Интересно, что данное явление, наблюдаемое как в творчестве, так и в поведении ряда представителей нового направления, получило обоснование и интерпретацию в позициях видных психологов и психиатров. Так, профессор И. А. Сикорский считал, что утрата обществом идеалов и высоконравственных ценностей, а также ослабление традиционного отечественного воспитания напрямую связаны с духом упадничества, подавленности, увеличением числа преступлений и суицидов. В труде «Психологические основы воспитания и обучения» (1909) Сикорский подчёркивал особое влияние художественной литературы на общественные нравы, что опре- деляло высокую ответственность самих авторов произведений за содержание творческой деятельности. Психиатр ставил писателей и художников на высокий пьедестал, называя их одарёнными «Божией искрой» людьми, «которые распознают добро и зло, здоровье и болезнь общественной души» [13, с. 10]. При этом одной из главных причин психологической уязвимости, депрессивности и склонности к мрачному пессимизму в произведениях ряда отечественных авторов учёный называет слабую волю как универсальную черту славянского национального характера. И только воспитание сильной воли, по мнению Сикорского, позволит устранить деструктивные явления из жизни общества и творчества [13, с. 21–22].
Для произведений современных писателей, по мнению известного врача Психиатрической клиники Московского университета Ф. Е. Рыбакова, характерно «отсутствие идейности». В них важной является не сама жизнь, а лишь «прозаические мелочи этой жизни», в которых авторы копаются чрезмерно кропотливо и болезненно, что отличает людей психически надломленных и нервнобольных. Характеризуя проявления декаданса, психиатр отмечает: «Никогда ещё литература не представляла нам такого обилия патологических типов, как именно теперь. И причиною этого является опять крайний индивидуализм ... Как известно, в каждой группе художников, помимо здоровых, истинно-талантливых натур, есть ещё и натуры больные. Вот эти-то больные натуры, копаясь в своем “я” и не находя в нём элементов истинного творчества, вынуждены бывают ограничиться изобра- жением того узкого, больного мира, который заполоняет их душу и сковывает их мозг. В результате – описание половых переживаний, импульсивных влечений, иллюзий, галлюцинаций и бредовых идей, которое так часто мы встречаем у современных литераторов ...» [11].
Известный русский дефектолог и невропатолог Г. И. Россолимо на основе исследования творческих работ пациентов сделал неутешительный вывод: «Когда пятнадцать лет тому назад мне впервые пришлось рассматривать рисунки и читать стихи психически больных, на меня большинство подобных произведений искусства производило глубокое впечатление своей уродливостью и диким содержанием – до того они резко отличались своим патологическим характером от того, что давала в то время живопись и поэзия. Прошло всего пятнадцать лет, и от этой беспредельной разницы осталось очень мало – настолько, что в некоторых пунктах приблизились друг к другу произведения некоторых представителей больного и здорового искусства» [10, с. 38]. Россолимо предупреждал об опасности «психического заражения» подобными явлениями в культуре декаданса, называя современное состояние эпидемией больного искусства. Учёный считал целесообразно весьма избирательно относиться к произведениям декадентского направления во избежание его особенно разрушительного влияния на психику молодого поколения. При этом учёный обосновывал тесную связь «усиленной душевной деятельности», повышенной психической напряжённости с возникновением у писателя нездорового нервно-психического состояния. Россолимо делает вывод о том, что «люди, эстетически одарённые от природы, обладают настолько патологически-тонкой организацией, что очень часто бывают жертвами более или менее тяжких заболеваний» [11, с. 13].
Однако многие исследователи новых трансформаций в культуре полагали, что явление декаданса в значительной мере вызвано социальными причинами. Феномен упадка, деформаций и деструктивных процессов в культуре и искусстве связывался с существующей цензурой и негативной атмосферой в социуме, препятствующей развитию позитивных художественных тенденций. Так, в частности, анализируя про- явления декаданса как культурного и социально-психологического явления, психиатр М. О. Шайкевич высказывал убеждение, что произведения и патологические образы героев – отнюдь не плод «извращённой психики» писателей или их аморализма: художники лишь изображают объективную картину действительности.
Ответственность творческих деятелей за морально-нравственные деформации в обществе, с точки зрения Шайкеви-ча, не обоснована или, по крайней мере, преувеличена, поскольку «патологическая нервная организация может и должна также непременно рассматриваться, как одна из форм проявления ненормальных общественных условий» [15, с. 9].
Например, А. П. Чехов, по мнению Сикорского, в своих произведениях отражает очевидные психопатологические процессы, угрожающие деградации человека, живущего в нездоровом обществе. Известный врач-психиатр М. П. Никитин, в свою очередь, отмечал глубинное проявление душевных болезней в произведениях Ф. М. Досто- евского и у чеховских героев, оказавшихся в тисках экзистенциальных переживаний – страха, отчуждения, отверженности, безысходности («Человек в футляре», «Палата № 6») [7].
Чтобы понять и оценить, в чём же состояли главные находки нового направления в искусстве, важно обратиться к предшествующим – 1870-м годам, поскольку новое искусство всегда вызревает на почве старого и вбирает всё лучшее, как бы являя собой недосказанность предыдущей эпохи. Так характеризуется «предшествующий раскрепощённому плюрализмом веку “Серебряному” век “Золотой” в своём академичном реализме переходного периода, между литературными традициями» [4, c. 253–275], давший хороший вектор в направленности нравственных идей и исканий человечества в трудах таких гениальных писателей, как А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и в особенности Ф. М. Достоевский. Эти художники не боялись посвящать целые романы человеческим чувствам без контекста каких-либо политических, исторических событий; они изображали терзания и метания человеческой души, не боясь очернить её, «вытаскивая» наружу все скверные помыслы, часто реализуемые в таких же поступках.
В самом начале Серебряный век творчески осмысливал трагедию человека, исходящую из духовной пустоты, пытаясь обновить и наполнить его мирочувствование новыми идеями, несущими спасение. Именно поэтому творчество каждого неравнодушного творца того периода было обращено к человеку страдающему в соответствующих темах, выносящих на поверхность индивидуальное существование личности в трудных обстоятельствах, интимно уделяя внимание внутренним переживаниям в каждом индивидуальном случае, а не призывающих пафосными лозунгами людские массы к беспредметному будущему.
Как свидетельствуют факты истории, время декаданса кратко. Именно в этот период неопределённости и неуверенности человек и общество начинают испытывать потребность в новизне более совершенной мировоззренческой и духовно-эстетической парадигмы. Отсюда возникает недоверие к общепризнанным ценностям, их «девальвация», и индивид начинает чувствовать себя свободным от всевозможных догм и схем, предаваясь полной свободе художественного творчества, остро ощущая утрату целостности мира, разрыв с традиционной классикой. Творец эпохи декаданса обращается к искусственному, возводя в культ «утончённый» эстетизм, проявляя склонность к иррациональному, мистике; поиски идеала проходят в горниле разочарований и сомнений; повышается интерес к пограничным состояниям психики, нередко происходит болезненное любование отталкивающими картинами бытия.
Понятие «декадентство» отражало всякое «инакомыслие», экстатические проявления, эпатаж и очевидные признаки морально-нравственного упадка. В современной культуре имморализм представляет собой определённую «картину мира», которая отвергает ранее признанные этико-эстетические приоритеты. Само слово «имморализм» произошло от латинского immoralismus: in – ‘не’, moralis – ‘моральный’, ‘нравственный’. В культурфилософском смысле имморализм – это не однозначно негативная характеристика, а своеобразный критический тип мышления, независимый от доминирующих в общественном сознании моральных норм и являющийся равноправным компонентом культурного диалога. В историко-культурном ракурсе имморализм – это некая антитеза, инвариация – то неизменяемое, что остаётся в культуре при любых её трансформациях. Важно заметить, что между терминами «имморализм» и похожим «аморализмом» непра- вомерно ставить знак равенства. Понятие «аморализм» означает лишь нежелание следовать установленным этическим правилам и признанным в социуме моральным авторитетам – и в целом, и в конкретных ситуациях.
Гуманитарная сфера отечественной культуры, особенно литература, а в более точном определении – русская словесность, всегда наиболее тонко улавливала антино- мичность переломных эпох и реагировала на вызовы грядущих общественно-политических катаклизмов. И именно в такой атмосфере в российском обществе создалась максимально благоприятная духовно-нравственная ситуация для трансформации декаданса из мироощущения в мировидение через художественно-эстетические инновации и новые художественные образы. Поскольку «декаданс – это в первую очередь протест на мещанское обмирщение в буржуазном развитии, выступающий против массовости и защищающий элитарность культуры» [6, c. 231–240], постольку он, как противоядие, резким эпатажным всплеском поражает, закрывает прошлое, не давая его опошлять, но и не позволяет упрощать будущее в надежде на скорое пробуждение прогрессивных культурных слоёв. И это пробуждение, этот духовный подъём рождается парадоксальным образом: из боли и отчаяния «экзистенциального кризиса» до вдохновенной красоты и возвышенных смыслов, воплощённых в многообразии творческих шедевров, иллюстрирующих масштаб индивидуального творческого самовыражения.
Одна из особенностей периода декаданса заключалась в том, что в нём жили и творили поэты, представляющие разные, порой абсолютно противоположные литературные течения и творческие концепции.
При этом одним из важнейших качеств русской культуры, а именно литературы, всегда оставался духовно-нравственный и религиозный поиск, выраженный в вечном стремлении понять своё предназначение и смысл бытия [16]. Но Серебряный век – это особое явление, представленное, как известно, всеми областями духовной жизни России, эпоха, отмеченная необычайным творческим подъёмом и выдающимися достижения- ми, чего не происходило в прежние исторические периоды. Пробуждение свободной мысли и свободного творчества в отечественной культуре сопровождалось исканиями новых ценностей и смыслов в науке, социальном служении, философии, религии, русской словесности. Многожанровые произведения эпохи и высказанные в них идеи – прямые доказательства того, что культура, искусство и в особенности божественный дар слова, воплощённый в русском литературном творчестве, – это те «духовные ключи», которые открывают душу человека, пробуждая его духовно-нравственное чувство и устремлённость к возвышенному. Особое, трепетное отношение русских литераторов к словесности обусловлено религиозной природой происхождения самого слова, его красоты, духовного значения. Именно по этой причине отечественные философы, или, как их называли в прежние времена, «любомудры», всегда искали объяснение русскому национальному характеру в сакральной сфере.
Первым течением литературы стала поэзия, которая приняла декадентские оттенки и показала в своём содержании следование основным принципам этого течения, сложившимся в Европе и имеющим общие черты и основу для своего становления. Одновременно развивалась и самобытная русская философско-религиозная мысль, об- ретая в своих исканиях новые пути в толковании смысла бытия [17]. Так как самоощущение реальности было разорвано, то и её изображение было не цельным, а ме-тафорически-символичным, выраженным весьма субъективно. По выражению А. Ф. Лосева, осуществлялось «чисто внутреннее, интуитивное познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе посредством силы воображения» [5, с. 213].
В литературе, как, впрочем, и в других областях культуры, декадентство получило развитие и стало популярным, однако нельзя признать, что его распространение получило широкий охват в силу своей элитарности . Мотивы декаданса, кризиса нашли своё воплощение в различных направлениях искусства, становление которых происходило на основе идей модернизма , сформировавшегося «в систему относительно самостоятельных художественных направлений и течений, характеризующихся ощущением дисгармонии мира, разрывом с традициями реализма, бунтарско-эпатирующим восприятием, преобладанием мотива утраты связи с реальностью, одиночества» [17], которые явились основными характерными составляющими декадентской эстетики, пронизанной мотивами внутреннего конфликта и потребностью духовного поиска.
Декадентство в рубежный период ХIХ–ХХ столетий заявило о себе достаточно громко, опираясь в своей позиции на положения манифеста о смене ориентиров и установленных путей, что отразилось в формировании символизма с его устремлённостью в изображении реальности через её отражение с помощью знаков и символов .
Серебряный век русской культуры парадоксален в своих непревзойдённых достижениях. Необходимо подчеркнуть, что период, который мы упоминаем, а именно – историко-философские проявления и выражения декаданса в русской культуре, являлся временем высочайшего духовного и художественного подъёма, несмотря на то, что проходил он в России под знаком катастрофы и зарождался из трагичности мироощущения. Поскольку начало русской декадентской культуры «произрастало» в целом на той же почве, что и европейская, элементы упадочности в начале его становления ярко обозначались за счёт узости культурного круга. Были резко изменены формы и стили художественных средств, с помощью которых достигалась выразительность будь то литературы или других форм искусства.
Декаданс – это и проводник в новый открывшийся мир искусства , который бескомпромиссностью и бесстрашием своих творцов создал предпосылки, получившие дальнейшее развитие в многочисленных культурных направлениях и школах блистательного Серебряного века. В то же время декаданс, в основе которого было заложено и саморазрушение , явственно продемонстрировал, что произойдёт с культурой Серебряного века: он оказался недолгим в литературе, искусстве, так как «пал жертвой собственного духовного богатства, многообразия, нравственно-эстетического плюрализма» [4, с. 229].
Первыми свою индивидуальность и независимость в применении новых творческих форм, доказавших многозначную сверхреальность посредством усложненной метафоричности образов, проявили такие выдающиеся литераторы, как Д. Мережковский и З. Гиппиус, Ф. Сологуб и В. Брюсов,
К. Бальмонт. Они явились одними из первых художественных новаторов, отказавшихся от классического наследия и отразивших своим творчеством все идеи явления декаданса в полной мере.
Манифестом, устанавливающим появление нового направления в отечественной литературе, культурологи называют статью Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», опубликованную в 1893 году. В последующие годы в свет вышли стихотворные сборники «Русские символисты», авторство большинства произведений в которых принадлежало Брюсову. Так эпоху реализма сменил символизм, главной идеей и всеохватывающим смыслом которого стала Красота. В своих произведениях, в частности поэзии, творцы новой эпохи обращались к изысканной образности передачи тончайших движений души через музыкальность и легкость слога, относились к слову как к некоему шифру через его знаковое наполнение , стремились создать картину идеального мира с эстетизацией смерти как бытийного начала. Новаторское поэтическое творчество провозглашало полное неприятие действительности и было обращено к миру трансцендентного, запредельного бытия через мистические переживания. Эти тенденции полностью соответствовали декадентской «картине мира» и особому типу сознания, который появился именно в переломный период, порождая чувство уныния, депрессии, страха перед жизнью, неверие в возможность познать мир, а тем более его изменить:
«Дома и призраки людей –
Всё в дымку ровную сливалось, И даже пламя фонарей
В тумане мёртвом задыхалось.
И мимо каменных громад
Куда-то люди торопливо, Как тени бледные, скользят, И сам иду я молчаливо, Куда – не знаю, как во сне, Иду, иду, и мнится мне, Что вот сейчас я, утомлённый, Умру, как пламя фонарей,
Как бледный призрак, порождённый, Туманом северных ночей» [8].
В этом стихотворении Мережковского видим, что поглощающей и умертвляющей силой всегда служит город, лишённый жизни, как искусственное явление, с которым творчеству поэтов-декадентов всегда сопутствует тема отчуждённости, искусственности. И сама жизнь – лишь призрачная её видимость, с людьми бестелесными, исполненными трагизма, выражающими бессмысленность бытия.
Философия и эстетика русского декаданса складывались, как уже было сказано, под влиянием идей европейского декаданса, в классических образах которого обнаруживаются черты литературы декаданса и одновременно – характеристики экзистенциальной психологии: эстетизация пессимизма; атмосфера безысходной грусти; астеничная болезненность; деструктивность эмоциональных переживаний, несмотря на очевидную искренность описываемых самоощущений; подчёркнутый индивидуализм, «ина-ковость» автора, который «не смешивается» с толпой, его отрешённость, депрессивность восприятия мира; тяготение к усложненной форме и в то же время изысканность прорисовки метафор и символов с оттенками мазохистской удовлетворённости. Разумеется, ассоциации и переживания у читателя могут быть различными, несмотря на общую угнетающую тональность, однако очевидна бесспорная талантливость, неординар- ность, «элитарность» декадентского стиля. Фактически, все эти проявления выступали в качестве протеста против массовости, «культуры толпы», проявляющейся во всех сферах жизни нового общества и насаждаемой новым строем. По выражению Д. В. Са-рабьянова, отмеченные выше поэты относили себя к декадентам, стиль, которых «выразился у нас в России в конце 80-х и начале 90-х годов. Их язык был предельно символичным и являлся универсальным культурным языком конца XIX – начала XX века, с приходом коего и в русской литературе начались необратимые процессы в формировании новой системы ценностей в мировоззрении культуры» [12].
Правомерно говорить о том, что Россия стала лидером в процессе создания художественно-эстетических инноваций декадентской культуры среди европейских стран, а в ряде направлений даже предвосхищала прогрессивные тенденции. Поэтому при всём разнообразии появившихся блистательных имён, весьма непохожих в своих индивидуальных творческих проявлениях, всех художников объединяло стремление выйти за строгие рамки академического, классического направления философии искусства, освободиться от влияния какой бы то ни было идеологии, «мёртвой» схемы и устремиться в свободное пространство индивидуального творческого самовыражения и жизнетворчества.
В конце XIX века поэтическая культура пережила настоящий взлёт, начало которого было связано с фигурой Бальмонта, открывшего первый, «брюсовский», период символизма. Бальмонт и сам по себе составляет великолепную главу русской поэзии [2]. Очень часто символизм соотносят с декадансом по общим схожим признакам, центральным из которых являет- ся провозглашение культа индивидуальности. Поэзии Бальмонта присущи гибкость и музыкальность языка, так как в своём, особенно раннем, творчестве он обращался к народным мотивам. В то же время в произведениях поэта слышны мотивы скорби о «невозвратном»:
«Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном, Твердит о счастьи необъятном Далёкий звон колоколов.
В прозрачный час вечерних снов
В саду густом и ароматном
Я полон дум о невозвратном,
О светлых днях иных годов» [8].
Однако настоящим виртуозом поэзии декаданса, его рупором был Брюсов, которому, как никакому другому представителю кризисной эпохи, был присущ декадентский эпатаж . Первый сборник стихов Брюсова произвёл фурор, а визитной карточкой поэта стала скандально прославленная строка: «О, закрой свои бледные ноги» . Наверное, представить, какая именно была реакция публики на столь неординарный пассаж очень сложно, но можно, пожалуй, сравнить её с восприятием общественности картины Казимира Малевича «Чёрный квадрат». Хоть и представленные в разное время, но в своей откровенной провокационности не уступающие друг другу, эти произведения, каждое по-своему, закрыли одну эпоху и открыли другую в искусствоведческой категории.
Брюсов – один из ярчайших представителей Серебряного века – занимал индивидуальную нишу в русской поэзии. Проявив свой талант сначала в символизме и будучи приверженцем декадентской эстетики, Брюсов внёс большой вклад в развитие её новых направлений. Притом, что он считал себя образцовым поэтом-декадентом и поддерживал эстетику стиля декаданс в быту, Брюсов проявлял некую двойственную природу, о которой писали его современники, называя поэта «безумие, наглухо застёгнутое в сюртук» [2, с. 19]. Он одним из первых предложил путь преодоления, изменения смысла и пересмотра предназначения символов, уделяя огромное внимание не смыслу слова, а его звуку:
«Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине» [8, с. 61].
Эти строки как будто создают чувство оторванности и погружения в ирреальный мир. По ритмике и интонации стихотворение воспринимается как звуковой комплекс с ощущением от прочтения некого речитатива, что отсылает данный стиль к языче- скому, народному творчеству, иными словами – к этническому наследию. Такое обращение в поисках новых путей в переходном периоде прослеживается у многих творцов.
Отметим, что новые творцы были весьма образованными людьми, в большинстве своём обладали энциклопедическими знаниями различных культур разных времён, изучением которых они занимались на древних языках. Во многих работах усматривается обращение к мотивам эпосов многих племён, обращение к архаическим образам которых должно было вернуть слову его силу внушения и таким образом преодолеть разрыв между интеллигенцией и народом. Серебряный век отличался своей универсальностью во всех проявлениях и стремлением к синтезу, что также является одной из его характерных черт. Характерные особенности декаданса отчётливо проявились в творчестве многих авторитетных и талантливых литераторов, в авангарде которых находились Мережковский и Гиппиус. Сами себя они считали символистами, используя в ранних литературных исканиях приёмы декаданса лишь для философских, этических и эстетических экспериментов, являющихся неотъемлемой частью их художественных исканий. И Гиппиус, и Мережковский, так же как и представители русской философии, утвердившие свою независимую концепцию без какого-либо влияния Запада, – В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Г. В. Федотов, считали декаданс не упадничеством в буквальном смысле, а лишь инструментом, помогающим отобразить бытие через индивидуальное восприятие.
Сам Мережковский признавал, что во многом на его творчество повлияли Бодлер и Эдгар По, но не как декаденты, а как символисты. Именно после знаком- ства с творчеством этих классиков литературы начались его духовные поиски и новаторские изыскания. Автор утверждал, что в основе декадентства лежит откровенный индивидуализм и субъективизм, которые послужили эстетической основой начальному символизму. Такого же взгляда придерживалась и Гиппиус, утверждавшая, что её занимало не декадентство, а символы, через которые идёт индивидуальное самовыражение:
«О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа – она глуха. Своими кольцами она, упорная, Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мёртвая, и эта чёрная, И эта страшная – моя душа!» [8, с. 55].
Но, признавая факт существования декадентской культуры, не все литераторы, критики выделяли ей равноправное место в культуре, так как не все считали декаданс явлением духовно-нравственным, заложенным самим ходом истории, а поэтому и неизбежным. Некоторые критики – они составляли меньшинство – называли декадентскую культуру порождением эпатажных людей. Решительно негативное отношение к общеевропейскому декадансу и данному направлению в России высказывал В. В. Стасов, «стремясь, прежде всего, оградить русское передовое искусство от его вредного влияния. Он, не понимая классовых корней декадентства, ошибочно считал, что в России нет для него почвы, что российское декадентство является исключительно результатом “плачевного подражательства”, “плохого обезьянничания” тому, что творилось в европейском искусстве» [14]. Именно с этих позиций Стасов повёл непримиримую борьбу против русских декадентов, создавших в конце 1890х годов своё художественное объединение «Мир искусства» во главе с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа. В 1899–1904 годах эта группа издавала одноимённый художественно-иллюстрированный журнал, популяризировавший декадентское искусство. Стасов писал о «мирискусниках»: «Стадо Дягилева, рабское и безвольное, вышло из источников и преданий чужих, иностранных – сначала французских, а потом немецких ... ни единой капли не заключает в себе чего-нибудь самостоятельного, своего ... Так велика ещё у нас подлая страсть обезьянничания, трусливая дрожь перед тем, что в Европе делается» [14]. Подавляющее большинство при- знанных литераторов, философов, критиков признавали феномен декаданса в начальной культуре Серебряного века. Так, Н. А. Бердяев в «Великом инквизиторе» писал, что декадентство – «очень глубокий кризис человеческой души и очень серьёзное течение в искусстве» [1, с. 41]. Интересный фрагмент полемики Блока и Мережковского по поводу идей символизма находим в труде Д. Мережковского «Акрополь. Избранные литературно-критические статьи»: «Самое большее, что может сделать лирика, – говорит Ал. Блок, – это – усложнять переживания, з а г р о м о ж д а я душу невообразимым хаосом и с л о ж н о с т ь ю . Если это “самое большее”, то что же малое? В искусстве, которое всё-таки есть, прежде всего, осуществление красоты, порядка, строя, гармонии, воля к “невообразимому хаосу” ничего доброго не обещает» [6, с. 256].
Исследованием и определением декаданса, его характеристик, специфических черт, а также причин для его проявления занимались Мережковский и Бердяев, так как через определение декаданса в области сознания выявлялись чувства, тревожащие человека в кризисную эпоху. Через эти экзистенциальные состояния происходил акт изучения художественной эстетики декаданса, которая часто имела провокационный характер, возводя в культ любой тип красоты как самодовлеющей ценности – с эстетизацией греха и порока в знак протеста против мещанства и обмирщения высокого нравственного чувства.
Как и в общественной жизни, так и в культурной возникала дилемма социального и сущностного, стремление к цельности и в то же время некая «разорванность» сознания. Всё это привело к социокультурному плюрализму, который ока- зался разрушительным в своём остром противоречии. В дальнейшем все творцы, причислявшие себя к декадентам, «растворились» в других течениях, не оставаясь при этом приверженцами одного стиля. В своем новаторстве они не изменяли себе в угоду властям, но в соответствии с эпохой были людьми двойных мыслей и стандартов. То, что определяло весь Серебряный век и явилось началом его конца. Хотя декаданс наиболее выразительно проявил- ся в литературе, поскольку в художественном аспекте он больше был явлением литературным, но его эстетическая концепция существенно отразилась и в других видах искусства. Фактически литература Серебряного века была социально-психологическим срезом общества, отображая все культурные явления изнутри.
В заключение правомерно резюмировать, что декаданс – явление историко-философское, психологическое и социокультурное: изначально появляясь в общественных умонастроениях, он находит художественное воплощение в наиболее актуальных видах литературы и искусства. Декаданс выступает как инструмент кризисной эпохи, чутко улавливающий настроения в обществе и его духовную жизнь. Основными характеристиками творчества русской культуры кризисного периода являются иллюзорность, двойственность, условность, построение на контрасте, кото- рое наиболее соответствует условному изображению действительности. Идейно-эстетические образы декаданса отображали внутренний мир человека, не считая действительность предметом, достойным творческого, художественного изображения.
Тенденции культурно-исторического развития России зачастую опережали цивилизационные, вступая с ними в неразрешимые противоречия или труднообъяснимые альянсы, что особенно явным и злободнев- ным становилось в переходные, кризисные эпохи. Когда будущее стремится к своему началу, но ещё не созданы соответствующие условия, а прошлое, закрепившись в традиционных нормах и ценностях, «не сдаёт своих позиций», наступает противоречивое время. Именно в такой – кризисный период – особенно остро проявляется состояние социокультурной неполноты, экзистенциальная драма: взаимное несоответствие социальных феноменов духовно-нравственным ценностям отечественной традиции и культурных значений.
Концепция декаданса полностью соответствовала своему начальному поводу для возникновения: протест против утилитарности во всех сферах жизни человека . Упомянутые тенденции и характеристики рубежного периода ХIХ–ХХ столетий весьма существенны и для понимания кризисной эпохи новейшего периода в истории и культуре современной России.
Список литературы Некоторые аспекты трансформации отечественной культуры в эпоху декаданса
- Бердяев Н. А. Великий инквизитор // О русских классиках / [авт. вступ. ст. К. Г. Исупов ; сост. и авт. коммент. А. С. Гришин]. Москва : Высшая школа, 1993.
- Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры : учебник для студентов вузов : в 2 частях. Москва : ВЛАДОС, 2002.
- История слов : Около 1 500 слов и выражений и более 5 000 слов, с ними связанных / В. В. Виноградов. Российская академия наук. Отделение литературы и языка. Научный совет «Русский язык». Институт русского языка имени В. В. Виноградова. Москва, 1999. 1138 с.
- Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. Москва : Аспект-пресс, 1997. 686, [1] с.
- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / [авт. вступ. ст. А. А. Тахо-Годи]. Москва : Политиздат, 1991. 524, [1] с.
- Мережковский Д. С. Акрополь : Избранные литературно-критические статьи / [сост., авт. послесл. И коммент. С. Н. Поварцов]. Москва : Книжная палата, 1991. 351 с.
- Никитин М. П. Чехов, как изобразитель больной души // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1905. № 1.
- Поэзия Серебряного века. Антология. Москва, 2007.
- Розанов В. В. Уединённое. Санкт-Петербург, 1912.
- Россолимо Г. И. Искусство, больные нервы и воспитание : (По поводу «декадентства»). Москва : типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1901. 50 с.
- Рыбаков Ф. Е. ... Современные писатели и больные нервы : Психиатрический этюд. Москва : типо-лит. В. Рихтер, 1908. 49 с.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. Москва, 1993. 320 с.
- Сикорский И. А. Психологические основы воспитания и обучения : Изд. дополнено разделами: «Психологические основы обучения» и «Идеи и орудия дошкольного воспитания». 3-е издание, доп. Киев : лито-тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1909. 112 с.
- Суворова Е. И. В. В. Стасов и русская передовая общественная мысль. Ленинград : Лениздат, 1956. 152 с.
- Шайкевич М. О. Психопатология и литература. Санкт-Петербург : тип. Ц. Крайз, 1910. 136 с.
- Шафажинская Н. Е. Тема духовного поиска в русской литературе и философской мысли // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 1 (51). С. 41-46.
- Эстетика : словарь / [Абрамов А. И. и др.; под общ. ред. А. А. Беляева]. Москва : Политиздат, 1989. 445 с.