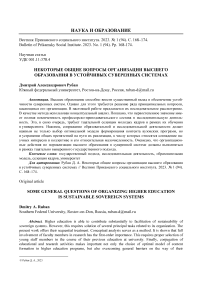Некоторые общие вопросы организации высшего образования в устойчивых суверенных системах
Автор: Рубан Д. А.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (94), 2023 года.
Бесплатный доступ
Высшее образование способно внести существенный вклад в обеспечение устойчивости суверенных систем. Однако для этого требуется решение ряда принципиальных вопросов, касающихся его организации. В настоящей работе предлагается их последовательное рассмотрение. В качестве метода использован концептуальный анализ. Показано, что первостепенное значение имеет полная вовлеченность профессорско-преподавательского состава в исследовательскую деятельность. Это, в свою очередь, требует тщательной селекции молодых кадров в рамках их обучения в университете. Наконец, сопряжение образовательной и исследовательской деятельности делает важным не только выбор оптимальной модели формирования контента вузовских программ, но и устранение общих препятствий на пути их реализации, к числу которых относятся совпадение научных интересов в коллективе и его относительная малочисленность. Очевидно, что организационные действия по нормализации высшего образования в суверенной системе должны выполняться в рамках тщательно выверенного государственного подхода.
Государственный подход, исследовательская деятельность, образовательная модель, селекция кадров, университет
Короткий адрес: https://sciup.org/14126476
IDR: 14126476 | УДК: 001.11:378.4
Текст научной статьи Некоторые общие вопросы организации высшего образования в устойчивых суверенных системах
Казавшиеся ранее необратимыми процессы глобализации сменились противоположными тенденциями. И если первые позволяли предполагать унификацию через многообразие (хотя бы при идеалистическо-утопическом взгляде), то вторые ставят общественные системы перед выбором: подчинение диктату однообразия или сохранение идентичности за счет внутренних ресурсов (в том числе духовно-нравственных) с переосмыслением внешних культурных «якорей». Предпочтение второго хотя бы частью систем единственно способно в перспективе вывести современную цивилизацию на оптимальный путь развития. Иными словами, на первый план выходят представления о суверенном подходе к общественному устройству, которые нуждаются в научной проработке с учетом как исторического опыта, так и текущего понимания природы краха глобализации.
Суверенные общественные системы призваны быть устойчивыми. В современном научном дискурсе понятие об устойчивости трактуется, главным образом, в связи с достижением экологических [1; 2], социальных [3; 4] или финансово-экономических [5; 6] показателей и решением соответствующих проблем. При этом оно используется все более общо с одновременным размыванием исходной смысловой нагрузки. В некоторых случаях это понятие конкретизируется, привязываясь к совокупности целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций [7], которые важны сами по себе, но при этом не призваны ограничивать рамки научного видения. Связь суверенитета и устойчивости не вызывает сомнений, при этом реализуясь также и в интеллектуально-культурной сфере [8; 9]. Устойчивые суверенные системы предполагают такие общественные отношения, которые обеспечивают поступательное развитие за счет интеграции определяющих идентичность наследия и традиций, инноваций и осмысленного трансфера знаний с привязкой к внутренней ресурсной базе.
Предыдущими исследователями уже обращалось внимание на особое значение высшего (университетского) образования в обеспечении как суверенитета [10; 11], так и устойчивого развития [12; 13]. Известно также, что именно наличие качественного научного обеспечения выступает фактором успешности реализации крупных государственных инициатив, направленных на поддержание и ускорение общественного прогресса [14]. В качестве исторической отсылки уместно привести цитату из классического труда Ф. Грегоровиуса, в которой он обозначил византийскую устойчивость к очередной попытке установлений западноевропейского диктата: «Греки никогда не могли облатиниться, и их язык, религия и образованность оказывались неискоренимы» [15, с. 298]. Эта мысль, сформулированная более чем столетие назад, звучит как нельзя актуально, подчеркивая роль интеллектуальной сферы в сохранении суверенных признаков высокоразвитой общественной системы. Целью настоящей работы является рассмотрение некоторых наиболее общих и при этом принципиальных вопросов организации высшего образования в устойчивых суверенных системах. Основным методом выступает концептуальный анализ заданной проблематики, направленный на прослеживание логических связей между отдельными элементами информации. Неизбежная в таком случае привязка к авторскому видению данной проблематики определяет форму представления результатов в виде своего рода академического эссе. Для ясности стоит добавить, что в данной работе слово «организация» используется для обозначения организационной деятельности, а не учреждения.
При рассмотрении организации высшего образования вопрос первостепенной важности – качество учебного процесса, которое определяется, как минимум, тремя основными условиями, а именно знаниями профессорско-преподавательского состава, внутренней логикой (системностью) образовательных программ и инфраструктурной обеспеченностью учебного процесса. Второе и третье условия относятся к механистическим процессам организации университетской деятельности, тогда как первое – к ее основному ресурсу. Однако важно не только и не столько его наличие, сколько состояние, в связи с чем необходимо отметить два существенных обстоятельства. Во-первых, знания, распространяемые в университетской среде, призваны быть в значительной своей части не базовыми (универсальными) или устоявшимися (кажущимися базовыми), а относиться к современному интеллектуальному поиску, что предполагает их быстрое устаревание и потребность в постоянном обновлении и дополнении, а также широту. В противном случае высшее образование попросту не будет выполнять своих функций. Во-вторых, носитель таких знаний непременно должен лично участвовать в их формировании, так как иначе не сможет обеспечить их корректную и своевременную трансляцию с четкой методологической привязкой и в контексте академического форсайта. Это тем более актуально с учетом исключительно быстрого роста научных знаний даже в рамках самых узких направлений подготовки. Сказанное означает, что профессорско-преподавательский состав должен активно участвовать в исследовательской деятельности, которая единственно может обеспечить качество распространяемых знаний в плане актуальности, новизны, широты, оригинальности и методологической выверенности. Значение при этом имеет не только (а подчас и не столько) информация, сгенерированная самим ученым в ходе собственных исследований, но и огромный объем дополнительных сведений, с которыми он(а) неизбежно знакомится при чтении научной литературы, при общении с коллегами, подборе тематики и объектов изучения и т. п. Принципиально важно понимать, что организация высшего образования, отвечающего нуждам устойчивой суверенной системы, требует ухода не только от преобладания преподавательской деятельности над исследовательской (и тем более необязательности последней), но и от самого их противопоставления и даже разделения.
Реальное состояние основного ресурса университетской деятельности нередко таково, что характеризуется преобладанием базовых и устоявшихся знаний. Безусловно, для его улучшения могут быть использованы механизмы стимулирования (поощрения исследовательской деятельности пропорционально уровню ее осуществления) и введения формальных требований по вовлеченности в научную работу. Однако первые недостаточны для устойчивой суверенной системы (хотя и должны активно использоваться ею), так как дают важный, но большей частью «точечный эффект», а вторые кажутся неэффективными по причине больших усилий и затрат, а также опасности поляризации научного сообщества, которая негативно скажется именно на носителях качественных знаний. Развитие университетской науки «из-под палки» вряд ли может быть устойчивым. Принципиальной альтернативой является селекция кадров для высшего образования, которая сама по себе оказывается значительным вызовом для его организации.
Недостаточная вовлеченность сотрудников университетов в исследования способствует тому, что студентам видимой оказывается сугубо преподавательская деятельность, что, с одной стороны, делает профессию вузовского ученого менее привлекательной и интеллектуально элитарной, а с другой – способствует выдвижению молодых кадров, ориентированных именно на эту деятельность, а не на исследования. Вышеотмеченная селекция приобретает несколько хаотический характер и при этом в перспективе даже способна ухудшить качество основного ресурса высшего образования. Более того, даже в случае привлечения молодых вузовских ученых, ориентированных именно на исследования, могут быть допущены серьезные ошибки. Прежде всего они касаются способности самостоятельного ведения исследова- ний, что предполагает инициативную постановку и решение задач в условиях отсутствия формальных рамок в университетской среде (это означает также умение устанавливать такие рамки самостоятельно). Эта способность предельно важна для широты и интенсивности научной деятельности, которые требуются от вузовских ученых для устойчивости суверенной системы. Отметим, что научная продуктивность имеет значение постольку, поскольку она призвана соответствовать ритму общественного прогресса и задачам, которые ставятся такой системой.
В связи с вышесказанным селекция кадров для высшего образования требует целого ряда организационных решений. Во-первых, начинающие вузовские сотрудники должны демонстрировать неподдельный интерес к науке и при этом проявлять способности к самоорганизации в рамках решения исследовательских задач. Для обеспечения селекции необходимо предложить студентам возможность продемонстрировать и (или) развить соответствующие способности во время обучения, при этом поддержав их инициативность. Во-вторых, селекция должна осуществляться в предельно реалистичной среде, то есть не в «игровом» виде (например, в формате ежегодных учебных конференций), а непосредственно в существующем исследовательском поле. Перспективные молодые кадры необходимо интегрировать во «взрослую» научную среду, в том числе для проверки того, насколько успешно они могут в ней развиваться. В противном случае сделать вывод о перспективности конкретных лиц для вузовской науки будет затруднительно, так как на первый план выдвинутся студенты с ценными, однако несколько иными качествами. В-третьих, селекция не должна носить массовый характер, который сам по себе минимизирует ее эффективность. Действительно, привлечение всех студентов к исследовательской деятельности с целью выделить наиболее перспективных способствует искусственному снижению барьеров входа в вузовскую науку, что в том числе уменьшает энтузиазм тех из них, которые уже считают себя интеллектуально готовыми к такой деятельности. Более того, массовая селекция затрудняет поиск перспективных кадров, обладающих вышеотмеченной инициативностью. Пожалуй, создание каналов для выборочной селекции является наиболее сложной организационной задачей.
Приведение высшего образования в зависимость от исследовательской деятельности и селекция соответствующих кадров поднимают еще один принципиальный вопрос. Он касается содержания образовательных программ, которое может быть описано двумя крайними моделями. С одной стороны, в каждом конкретном вузе программа по определенному направлению / специальности может составляться таким образом, чтобы соответствовать научным интересам профессорско-преподавательского состава. Очевидным плюсом такого подхода является возможность предельно качественного преподавания отдельных дисциплин. Однако сложности возникают, когда научные интересы многих сотрудников совпадают, а коллективы при этом малочисленны. Образовательный процесс в таких нередких случаях приобретает избыточно узкий фокус и при этом становится предельно однообразным. С другой стороны, программы могут строиться по принципу максимальной широты с включением дисциплин, характеризующих как можно большее количество аспектов конкретной предметной области. В таком случае плюсом оказывается разносторонняя (с претензией на всеобъемлемость) и более системная подготовка студентов. Препятствия к реализации такой модели аналогичны тем же, что отмечены выше. Следствием их является снижение качества образовательного процесса из-за преподавания дисциплин вне рамок научной специализации конкретных сотрудников. В действительности высшее образование использует смешанные модели, однако от этого они не становятся лучше, так как оба крайних варианта демонстрируют проблемы. Как можно увидеть, их возможное решение лежит в иной плоскости и должно быть нацелено на устранение вышеотмеченных препятствий, а именно недостаточной диверсификации научных интересов и невозможности повсеместного создания крупных коллективов, обеспечивающих реализацию разносторонних образовательных программ (при этом существует потребность в малых вузах, конкуренция которых сама по себе вносит вклад в развитие высшего образования и обеспечивает равный доступ к последнему для населения крупных территорий).
Важной организационной задачей является обеспечение разнообразия научных интересов профессорско-преподавательского состава. Безусловно, установление каких-либо соответствующих ограничений бессмысленно и вредно, однако использование стимулирующих механизмов может оказаться полезным. Например, речь идет о приоритетном учете статей с минимальным количеством соавторов из одного и того же вуза (факультета, кафедры) или о предпочтении научных коллективов, включающих сотрудников разных университетов, при рассмотрении грантовых заявок. Внимание к устойчивости суверенных систем и повышению «спроса» на исследования не должно приводить к избыточной формализации научной среды (в том числе вузовской). Напротив, именно гибкость и деконцентрация последней способны обеспечить требуемую от нее продуктивность с одновременным повышением качества высшего образования. В этой связи роль научных школ и устойчивых исследовательских коллективов требует переосмысления, а логичным организационным действием видится поддержка их рассредоточенности между вузами. Что касается нехватки кадров, то эта проблема может быть решена за счет виртуального сотрудничества между университетами с использованием дистанционных технологий. Устранение рассмотренных препятствий позволит использовать вторую из вышеуказанных крайних моделей, которая в случае успешной реализации видится более перспективной в плане общего качества высшего образования.
Сопоставляя сказанное выше с реальной ситуацией в высшем образовании, можно увидеть, что последнее нуждается в существенной нормализации, при этом не столько собственно преподавательской, сколько научной составляющей. При умелом задействовании соответствующих организационных механизмов эта нормализация может быть осуществлена последовательно и при этом «мягко». Однако это требует государственного подхода с императивной постановкой задач и систематическим контролем за их решением. Хотя такая нормализация отвечает интересам общества и самого высшего образования, последнее довольно инерционно и консервативно, а потому далеко не во всех случаях способно к должной самоорганизации (тем не менее последняя при ее наличии может быть очень важной [16]). Государственный подход в рамках суверенной системы должен быть многоуровневым, учитывающим особенности текущего состояния высшего образования и его сопряжения с задачами развития конкретных территорий (в этом отношении весьма примечательна и полезна дискуссия, предложенная в работе И. Н. Кима [17]).
Суммируя сказанное выше, можно заключить, что организация высшего образования в устойчивых суверенных системах должна ориентироваться на три взаимосвязанных императива, каковыми являются полная вовлеченность профессорско-преподавательского состава в исследовательскую деятельность, корректная селекция молодых кадров для университетов и обеспечение модели разностороннего образования. Все это требует разработки и имплементации соответствующего государственного подхода, призванного быть эффективным, но при этом гибким и «мягким». Важнейшей задачей для специалистов, занимающихся научной проработкой соответствующих вопросов, является конкретизация организационных действий в связи с таким подходом.
Список литературы Некоторые общие вопросы организации высшего образования в устойчивых суверенных системах
- Ерлыгина Е. Г., Штебнер С. В. Экологическая устойчивость в концепции устойчивого развития // Бюллетень науки и практики. 2022. № 6. С. 134–141.
- Goodland R. The concept of environmental sustainability // Annual Review of Ecology and Systematics. 1995. Vol. 26. Pp. 1–24.
- Dempsey N., Bramley G., Power S., Brown C. The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability // Sustainable Development. 2021. Vol. 19. Pp. 289–300.
- Wang X., Yang M., Park K., Um K.-H., Kang M. Social sustainability of a firm: Orientation, practices, and performances // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. Vol. 19. P. 13391.
- Побережец Е. А., Баранова И. В. Методические аспекты сравнительного анализа финансовой устойчивости организаций // Сибирская финансовая школа. 2022. № 2. С. 247–255.
- Manuti A., Giancaspro M. L., Callea A. Sustainable Careers and Flourishing Organizations // Sustainability. 2022. Vol. 14. Pp. 11898.
- Arora-Jonsson S. The sustainable development goals: A universalist promise for the future // Futures. 2023. Vol. 146. Pp. 103087.
- Жуковская Н. Ю., Калинина Е. В. Государственный суверенитет и диалектика его эволюции в современных условиях // Международное право и международные организации. 2021. № 4. С. 76–88.
- Dunford M., Liu W. Chinese perspectives on the Belt and Road Initiative // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2019. Vol. 12. Pp. 145–165.
- Шматко А. Д., Бордовский Г. А. Тренды развития высшего образования: анализ проблематики с учетом вопросов укрепления национального суверенитета // Экономика и управление. 2022. № 10. С. 1074–1080.
- Юревич М. А. Кооперация университетов и бизнеса как фактор формирования технологического суверенитета // Проблемы развития территории. 2022. Т. 26. № 4. С. 47–60.
- Cuesta-Claros A., Malekpour S., Raven R., Kestin T. Understanding the roles of universities for sustainable development transformations: A framing analysis of university models // Sustainable Development. 2022. Vol. 30. Pp. 525–538.
- Wolhuter C. C. The sustainable development goals as criteria for the global ranking of universities // Perspectives in Education. 2022. Vol. 40. Pp. 1–13.
- Носачевская Е. А. Об актуальных вопросах научного обеспечения развития региональной экономики в контексте реализации национальных проектов // Экономика устойчивого развития. 2019. № 1. С. 210–213.
- Грегоровиус Ф. История города Афин в Средние века (от эпохи Юстиниана до турецкого завоевания). М.: Альфа-книга, 2009. 767 с.
- Старшинова Т. А. Адаптивность и самоорганизация системы подготовки кадров в аспирантуре // Высшее образование в России. 2021. № 12. С. 157–166.
- Ким И. Н. Об инновационности российского образования и почему региональным аграрным вузам сложно этому соответствовать // Экономика сельского хозяйства России. 2022. № 11. С. 46–54.