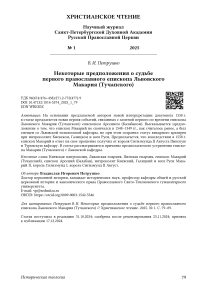Некоторые предположения о судьбе первого православного епископа Львовского Макария (Тучапского)
Автор: Петрушко В.И.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основании предлагаемой автором новой интерпретации документа 1558 г. в статье предлагается новая версия событий, связанных с заменой первого по времени епископа Львовского Макария (Тучапского) епископом Арсением (Балабаном). Высказывается предположение о том, что епископ Макарий не скончался в 1548-1549 гг., как считалось ранее, а был смещен со Львовской епископской кафедры, но при этом сохранил статус викарного архиерея при митрополите Киевском, Галицком и всея Руси. Предполагается, что впоследствии в 1558 г. епископ Макарий в ответ на свое прошение получил от короля Сигизмунда II Августа Пинскую и Туровскую кафедру. В статье рассматриваются причины предполагаемого устранения епископа Макария (Тучапского) с Львовской кафедры.
Киевская митрополия, львовская епархия, пинская епархия, епископ макарий (тучапский), епископ арсений (балабан), митрополит киевский, галицкий и всея руси макарий ii, король сигизмунд i, король сигизмунд ii август
Короткий адрес: https://sciup.org/140309286
IDR: 140309286 | УДК: 94(474/476+438):271.2-772(477)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_79
Текст научной статьи Некоторые предположения о судьбе первого православного епископа Львовского Макария (Тучапского)
От времени, когда во главе Киевской митрополии находился митр. Сильвестр (Белькевич) — 1556–1567 гг., сохранился документ, который не поддается однозначной интерпретации. Речь идет о жалованной грамоте Польского короля и великого князя Литовского Сигизмунда II Августа некоему епископу Макарию (АЗР, III, 1848. 95–96), согласно которой ему передавалась Пинская и Туровская епархия1.
В этом документе, датированном 22 апреля 1558 г., говорится: «Бил нам чолом епископ Макарий, которого зошлый архиепископ митрополит Киевский на епископство поставил и у себя его мел, абыхмо его хлебом духовным пожаловали, и по животе владыки теперешнего Пиньского и Туровского Макария тое владычество Пиньское ему дали».
Согласно тексту грамоты, упоминаемый в ней еп. Макарий был рукоположен в сан архиерея митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Макарием II. О предоставлении еп. Макарию Пинской епархии перед королем Сигизмундом II Августом ходатайствовали виленский воевода и канцлер Великого княжества Литовского Николай Радзивилл Черный2 и новогрудский воевода и писарь Великого княжества Литовского Иван Афанасьевич Горностай3. Король, как следует из содержания документа, внял просьбе владыки Макария и пожаловал его Пинской кафедрой.
Из текста королевского привилея еп. Макарию видно, что в данном случае речь идет не о каком-то светском искателе епископства, каких в ту эпоху было немало, или нареченном владыке, а именно об уже рукоположенном епископе. Упоминание о том, что митр. Макарий II «у себя его мел» (то есть держал при себе), с высокой долей вероятности может быть интерпретировано как указание на то, что данный архиерей, фигурирующий в тексте грамоты без указания кафедры, обладал статусом митрополичьего викария и не имел под своим началом отдельной епархии. Именно викарным счел указанного еп. Макария в своей «Истории Русской Церкви» митр. Макарий (Булгаков), не став, однако, далее развивать эту тему и идентифицировать личность архиерея, упомянутого в королевской грамоте [Макарий Булгаков, 1996, 191].
Немногочисленные исследователи, касавшиеся вопроса о личности еп. Макария, упомянутого в грамоте короля Сигизмунда II Августа от 22 апреля 1558 г., отождествляли его с владыкой Макарием (Евлашевским) [Mironowicz, 2011, 207–208; Лукашова, 2010]. Между тем о еп. Макарии (Евлашевском) известно, что он возглавил Пинскую епархию только после того, как в 1568 г. епископ Пинский и Туровский Иона III (Протасевич-Островский) стал митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Епископ Макарий (Евлашевский) занимал Пинскую кафедру до своей кончины в 1576 г., когда его сменил владыка Кирилл (Терлецкий) (АЗР, III, 1848, № 65, 188–189].
Однако если видеть в архиерее из грамоты 1558 г. еп. Макария (Евлашевского), трудно объяснить, почему якобы уже рукоположенный на тот момент архиерей, получивший королевскую экспектативу на Пинскую епархию, так и не стал епископом Пинским и Туровским, а почему-то уступил кафедру еп. Ионе (Протасевичу-Островскому), а затем в течение целого десятилетия ожидал момента, когда сможет все-таки ее занять. В таком случае получается, что еп. Макарий (Евлашевский), будучи законно поставленным архиереем, тем не менее после 1558 г. не занимал вообще никакой церковной должности — ни в одном из источников он не упоминается ни как глава какой-либо епархии, ни как настоятель монастыря. Между тем представить подобную ситуацию в сер. XVI в. довольно сложно.
Но проблема с отождествлением еп. Макария из грамоты 1558 г. с Макарием (Евлашевским) решается еще проще, если обратиться к мемуарам сына этого архиерея — Федора Михайловича Евлашевского, который достаточно подробно описал обстоятельства, при которых его отец стал Пинским епископом: «В тым же року [15]72 видечи я пана отца моего осиротялого и велце для смерти малжонки свэи жалосного, радячисе и намовляючисе з ним зрозумялэм, жебы позволил на яким владычстве живота доконать. Доведавшисе о ваканцыеи владычства Пинского, чинилэм велке старане и не успоминаючи прац, накладов и розных практык, кгдыж то все для добродея отца моего милого был повинен и але кгды ми до накладов пенязеи не стало и былэм так нещенсныи, жем се ту около Ляхович у люди тых, кторым се часто в потребах их згожал на узычене пенязеи способить не моглъ, и аж о котором мнеи надеи мялэм, пан Андреи Жданович Даровскии, и по смерти му добрэ слово зоставуе, же ме пенезми был поратовал, жем то владычство Пинске пану отцови отрымал. На которое року [15]73 стыченя 18 дня в Новогородку от митрополита Ионы Протасовича посве-цоныи был и до Пинска приехал на столицу свою 26 стычня в понеделок» (Свяжынскі, 1990, 96–97). Таким образом, рукоположенный во епископа Пинского 18 января 1573 г. митр. Ионой III еп. Макарий (Евлашевский) однозначно не может быть отождествлен с еп. Макарием из грамоты 1558 г.
Как уже было сказано, в королевской грамоте владыка Макарий фигурирует как лицо, уже получившее епископскую хиротонию, но без указания его епархиального титула. Однако его архиерейская хиротония, безусловно, не могла быть совершена без привязки к конкретной епископской кафедре. Столь же очевидно, что это рукоположение не могло состояться без разрешения короля. Это дает основания предположить, что на момент выдачи грамоты в 1558 г. упомянутый в ней Макарий, скорее всего, был архиереем, некогда по какой-то причине лишившимся своей кафедры, но сохранившим при этом статус законного епископа и находившимся при митр. Макарии II в качестве его викария. В то же время известно, что в сер. XVI в. статусом викарного епископа при митрополите Киевском, Галицком и всея Руси обладал только один-единственный архиерей — епископ Львовский и Каменец-Подольский.
Как известно, создание православной Львовской епархии в 1539 г. стало результатом многолетнего противостояния между православным населением Галиции и римско-католическим архиепископом Львовским Бернардом Вильчеком, стремившимся к еще большему ограничению прав и без того дискриминируемого православного населения Русского воеводства4 и его принуждению к переходу в католичество. В 1509 г. король Сигизмунд I выдал Бернарду Вильчеку по его просьбе привилей, дававший ему право предоставлять королю кандидатуру митрополичьего наместника, управляющего православным духовенством в Русском воеводстве (Дополнения АИ, 1848, № 50, 137). При этом Вильчек казуистически ссылался на грамоту польского короля Владислава II Ягайло от 6 декабря 1423 г., подтвержденную его сыном королем Владиславом III Варненчиком в 1442 г., фактически наделявшую львовского архиепископа латинского обряда правом контролировать жизнь православных верующих Галиции. В связи с этим король Сигизмунд I подтвердил грамоту Владислава II и Владислава III (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 1, 1–3). В челобитной к митр. Макарию II от 13 декабря 1539 г. православные Галиции и Подолии отмечали, что Сигизмунд I «дал был на нас свой привилей арцибискупу нынешнему, даючи… моц абыхмо тым рыхлей были принужени к их вере» (то есть чтобы православных было легче принуждать к переходу в католицизм) (АЗР, II, 1848, № 198, 359-361). Тем не менее православное население Галиции постоянно предпринимало усилия с целью добиться отмены этого дискриминационного акта.
-
1 августа 1535 г. король Сигизмунд I издал привилей, которым утверждал митрополичьим наместником в Галиции Макара Рафаиловича Тучапского (Дополнения АИ, 1848, № 53, 140-141). 5 августа 1535 г. Сигизмунд I направил свою грамоту православному перемышльскому епископу Лаврентию (Терлецкому) и дворянину Андрею Рагозинскому, которым поручалось ввести Тучапского в должность наместника (АЗР, 1848, II, № 185, 338). Тем самым львовский римско-католический архиепископ
фактически лишался своей прежней прерогативы поставления митрополичьего наместника в Русском воеводстве.
Макар Рафаилович Тучапский5 уже с 1520-х гг. был известен как один из «старших» общины православных русинов Львова — предшественницы знаменитого впоследствии Львовского Успенского братства. В 1530 г. Макар Тучапский упоминается как один из попечителей Успенской церкви — единственного православного храма в черте городских стен Львова, расположенной на улице Русской, то есть в городском квартале, отведенном для поселения «схизматиков»-русинов. Макар Тучапский получил широкую известность как один из наиболее активных борцов с дискриминацией православного населения Львова и всего Русского воеводства (см. подр.: [Крип’якевич, 1907]).
-
6 июля 1535 г. православное духовенство и шляхта Русского и Подольского воеводств, направляя митр. Макарию II челобитную, напоминали: «А ваше святительство рачил до нас писати, иж быхмо от себе доброго человека обрали и до вашего святительства послали». На этом основании, как сообщали митрополиту авторы челобитной, «мы вси, за ласкою вашего святительства, обрали есьмо от нас, яко духовныи и шляхта и мещане, так все посполство от больших и до меньших, земль Русских и Подольских всих закону Греческого, на имя Макария, мещанина Львовьского, которого ж и ваше святительство добре знаешъ; за которым же ваше святительство по-корне вси просим и чолом бьем, абы ваше святительство рачил на него ласкав быти, и ему тот уряд на Крилосе и у тых вышеписаных землях намесничество дати» (АЗР, II, 1848, № 193, 349-350)6.
Впоследствии Макар Тучапский, вероятно, был аноблирован и получил от короля Сигизмунда I дворянство, как следует из королевского привилея 1540 г., в котором Тучапский назван «благородным» ( «nobilem Macarium Thuczapsky» ) (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 11, 21). В дальнейшем Тучапский, принявший монашеский постриг с именем Макарий, стал архимандритом Свято-Юрского монастыря во Львове7. Став митрополичьим наместником в Галиции, архим. Макарий (Тучапский) ревностно отстаивал права православного населения края и по этой причине вступил в острый конфликт с львовским архиепископом латинского обряда Бернардом Вильчеком, который стал добиваться его устранения с поста наместника (АЗР, II, 1848, № 197, 357–359).
Еще прежде, чем состоялось поставление нового львовского епископа, в конце 1539 г., король Сигизмунд I издал привилей, в котором были указаны границы юрисдикции («земля Русская и Подольская с поветами Галицким, Львовским, Каменецким, Снятынским, Теребовлянским»), а также права, обязанности и привилегии нового православного иерарха. В этой грамоте Сигизмунд I в оправдание своего согласия на поставление православного епископа для Галиции и Подолии отмечал, что в связи с тем, что архим. Макарий (Тучапский) ранее, будучи митрополичьим наместником, не имел епископского сана, за хиротониями новых священников и диаконов, антиминсами для новых храмов и по бракоразводным делам приходилось обращаться к православным архиереям в Молдавию, чего отныне делать не придется. В грамоте особо отмечалось, что еп. Макарию (Тучапскому) передаются Галицкая митрополичья резиденция в Крылосе и Уневский Успенский монастырь, также ранее находившийся в ведении митрополита (Дополнения АИ, 1848, № 55, 142–143).
Фактически это было положение викария митрополита Киевского и Галицкого (по Галицкой митрополии), которому львовский владыка должен был ежегодно после праздника Пасхи передавать половину доходов, получаемых от своей епархии8, и власти которого он обещал полностью подчиняться, действуя от его имени. Епископ Львовский также давал обязательство не пытаться возобновить Галицкую митрополию. Антиминсы для храмов Львовской епархии он должен был подписывать от имени митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. В случае проявления непослушания епископ Львовский должен был уплатить огромный штраф — полторы тысячи злотых (из них 1 тысячу королю и 500 — митрополиту) и лишиться епископского сана.
Такое специфическое положение было определено львовскому архиерею не случайно. Митрополит Макарий опасался, что недовольные созданием православной епархии в Галиции католические иерархи Польши смогут добиться возобновления Галицкой митрополии, отдельной от Киевской, с тем чтобы на нее проще было оказывать свое прозелитическое влияние. Викарный статус львовского архиерея, который, по сути, продолжал оставаться наместником митрополита Киевского и Галицкого, должен был служить препятствием на этом пути.
Тем не менее сам владыка Макарий (Тучапский) и православные верующие Галиции были вполне согласны оказаться в довольно жесткой зависимости от митрополита Киевского, так как это обеспечивало им гарантированную поддержку с его стороны, крайне необходимую в условиях противостояния с католиками и защиты своих прав. Вероятно, свою роль играл при этом и материальный фактор, так как новосозданная Львовская епархия на первых порах была весьма небогатой из-за того, что почти все прежнее имущество Галицкой митрополии было расхищено католической знатью. Митрополит Киевский в такой ситуации мог оказать православным галичанам некоторую финансовую помощь. Известно, что в нач. 1547 г. еп. Макарий (Тучапский) и православные жители Львова обращались к митр. Макарию II с просьбой объявить сбор пожертвований на строительство нового каменного Успенского храма во Львове, в ответ на что митрополит Киевский опубликовал окружное послание с призывом помочь православным львовянам (АЗР, III, 1848, 18–19).
Согласие владыки Макария (Тучапского) на зависимый от митрополита статус во многом объяснялось и тем, что он по своему происхождению принадлежал, в отличие от большинства архиереев Киевской митрополии того времени, не к наследственной знати, а к числу наиболее активных православных львовских мещан. Сам он и его собратья-мещане с улицы Русской были православными верующими с весьма развитым религиозным сознанием и стремились прежде всего к нормализации положения дискриминируемых православных жителей Галиции, тогда как среди значительной части православной шляхты того времени уже наметилась тенденция к получению церковных должностей ради стяжания доходов от сопряженных с ними земельных владений.
Став епископом, Макарий (Тучапский) продолжал взаимодействовать с православными горожанами Львова, чья значительно возросшая активность легла в основу деятельности православного братского движения, центром которого стало братство, сформировавшееся вокруг Успенской церкви на Русской улице Львова. Относительно времени создания Львовского Успенского братства среди исследователей до сих пор нет единого мнения (см.: [Шустова, 2016]). И тем не менее, хотя официальное учреждение Львовского Успенского братства традиционно относят к 1580-м гг., так как патриарх Антиохийский Иоаким V (Дау) подписал 1 января 1586 г. благословенную грамоту об учреждении братства и утвердил его устав [Петрушевич, 1868, 101– 108], есть все основания полгать, что начало деятельности братства было положено уже при еп. Макарии (Тучапском).
Известно, что владыка Макарий (Тучапский) своими грамотами благословил и поддержал создание православных братств при Благовещенской (1542 г.) (Вестник ЮЗЗР, 1862, I, № 1, 98–100) и Никольской (1544 г.) (Вестник ЗР, VIII (1), 1869, № 1, 21–24) церквях, которые находились в Галицком и Краковском предместьях Львова соответственно и в дальнейшем стали «младшими» по отношению к Успенскому братству. В связи с этим логично предположить, что аналогичная структура тогда же могла быть создана и при ведущем православном храме Львова — Успенском, однако в дальнейшем в условиях острого противостояния львовских православных мещан с епископами из рода Балабанов — Арсением и Гедеоном, Успенское братство могло быть ими официально упразднено, хотя фактически братская деятельность при Успенской церкви, очевидно, не прекращалась и после этого. Вышеупомянутое обращение еп. Макария к митр. Макарию II по поводу возведения новой каменной Успенской церкви на Русской улице во Львове в 1547 г. также могло быть связано с учреждением при ней братства в 1540-е гг.
В то же время имеются веские основания считать, что между еп. Макарием (Ту-чапским) и частью православной галицкой шляхты сложились весьма конфликтные отношения, затрагивавшие также и тех представителей духовенства Львовской епархии, которые в ущерб епископской власти переходили под покровительство светских патронов. В противостоянии с ними еп. Макарий нашел поддержку у короля, заинтересованного в том, чтобы ослабить магнатерию и шляхту, с которыми польско-литовский монарх в это время конфликтовал. В частности, 11 октября 1544 г. Сигизмунд I издал грамоту, воспрещавшую светским патронам брать под свою защиту тех клириков, которые не подчиняются еп. Макарию, отказываясь приезжать на ежегодные собрания духовенства епархии и выплачивать своему архиерею «куничное» — традиционный ежегодный сбор в пользу правящего архиерея (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 13, 23-24). 22 августа 1546 г. король подписал новый указ, которым приказывал расследовать действия старост и шляхты, чинящих препятствия православному львовскому епископу (Архив ЮЗР, I (10), 1904. № 14, 25).
Конфликт еп. Макария c братией Уневского монастыря, очевидно, также был связан с оппозиционным настроем ряда православных шляхтичей по отношению к архиерею, на который наложилось недовольство монахов переходом ранее номинально митрополичьей Уневской обители под контроль львовского епископа. Действуя под влиянием шляхтича Ванка Лагодовского из Станимира, уневская братия в начале 1540 г. обвинила еп. Макария (Тучапского) в том, что он якобы присвоил себе имущество обители. Но в дальнейшем, на суде, проходившем во Львове в августе 1540 г., монахи признали, что оклеветали львовского епископа (АЗР, II, 1848, № 205, 370–372). В 1542 г. король Сигизмунд I вынес в отношении Уневской обители компромиссное решение. Монастырь был возведен на степень архиман-дрии и подчинен епископу, но лишь номинально: братия получили право самостоятельно избирать архимандрита, но утверждать его должен был епископ, который, однако, не имел права вмешиваться во внутреннюю жизнь обители (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 12, 22–23).
Проблема автономии Уневского монастыря, судя по всему, была тесно связана с вопросом о будущем преемнике еп. Макария (Тучапского). Как видно, еще при жизни владыки Макария на львовскую епископскую кафедру начал претендовать вдовый православный шляхтич Марк Балабан герба Корчак. Его активность, направленная на овладение львовской кафедрой, обозначилась задолго до кончины еп. Макария и затрагивала прежде всего монастыри Львовской епархии, судя по тому, что 8 июня 1548 г. король Сигизмунд II Август предписал Марку Балабану не вмешиваться в дела монашеских обителей Галиции, подчиненных еп. Макарию (Тучапско-му) (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 167, 427–428).
Тем не менее уже 13 декабря 1548 г. Марк Балабан получил от короля привилей на занятие львовской епископской кафедры. В королевской грамоте указывалось, что это должно произойти после кончины еп. Макария (Тучапского) (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 18, 30-31). Судя по данному документу, еп. Макарий в то время определенно еще был жив. Очевидно, что именно с получением Марком Балабаном королевской экспектативы на львовскую кафедру была связана и передача Марку Балабану графом Яном Амором Тарновским, крупным магнатом-католиком, занимавшим посты великого гетмана коронного, а также воевод Краковского и Русского, ктиторских прав на Уневский монастырь, что король Сигизмунд II Август утвердил своей грамотой также 13 декабря 1548 г. (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 17, 29–30).
Традиционно кончину еп. Макария (Тучапского) датируют концом декабря 1548 г. или началом января 1549 г. на том основании, что 10 января 1549 г. митр. Макарий II подтвердил соглашение львовского епископа с его «крылосом», заключенное Макарием (Тучапским) в 1539 г. (АЮЗР, I, 1863, № 118, 124–126). Данную меру обычно связывают с тем, что епископскую кафедру во Львове к 10 января 1549 г. уже получил новый нареченный архиерей — Марк Балабан, которому предстояло заново выстраивать отношения с влиятельными львовскими «крылошанами».
-
23 апреля 1549 г. король Сигизмунд II Август подтвердил пожалование львовской епископской кафедры Марку Балабану, сделав это в весьма своеобразной форме: о передаче православной львовской епископии Марку Балабану монарх специальной грамотой известил львовского римско-католического архиепископа Петра Стажехов-ского, который, став преемником Бернарда Вильчека, начал настаивать на возобновлении права иерарха латинского обряда назначать наместника православного митрополита в Галиции (Дополнения АИ, 1848, № 58, 147).
Однако назначение Марка Балабана епископом Львовским оспорила влиятельная группа близких к еп. Макарию (Тучапскому) православных львовских мещан — противников семьи Балабанов. Оппоненты Балабана считали его недостойным епископского сана. Вероятно, главной претензией, предъявляемой Марку Балабану, было его крайне грубое обращение с монахами Уневского и Онуфриевского монастырей, в связи с чем король Сигизмунд II Август сначала запретил Балабану вмешиваться в дела земельных владений Уневского монастыря (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 195, 483), а затем 20 ноября 1549 г. и вовсе отобрал у него право патроната в отношении обители в пользу Александра Ванка Лагодовского, предписав возместить нанесенный Уневской братии материальный ущерб (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 196, 484-485). По ходатайству львовских православных мещан наместником Львовской епархии тогда же был назначен епископ Перемышльский Антоний (Радиловский) (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 20, 33). Тем не менее Марк Балабан, вскоре принявший монашеский постриг с именем Арсений, в конечном счете стал полноправным епископом Львовским.
Львовские мещане не зря не желали видеть Арсения (Балабана) своим архиереем. В отличие от владыки Макария (Тучапского), который во главу угла своей деятельности ставил защиту прав православных русинов Галиции, его преемник сосредоточил свою деятельность преимущественно на увеличении доходов Львовской епархии. С этой целью еп. Арсений (Балабан) вновь начал активно бороться за присвоение Уневского и Львовского Онуфриевского монастырей, имевших официальный статус митрополичьих и опекаемых православной галицкой шляхтой и львовскими мещанами соответственно. По приказу еп. Арсения его люди неоднократно совершали вооруженные нападения на оба монастыря (см.: (Зубрицкий, 1849)). Львовских мещан, воспротивившихся передаче Онуфриевской обители епископу, владыка Арсений (Балабан) подверг отлучению от Церкви. После этого в конфликт был вынужден вмешаться митр. Макарий II, который 20 сентября 1551 г. потребовал от еп. Арсения (Балабана) отменить отлучение, наложенное на православных львовян, и не вмешиваться в их дела (Архив ЮЗР, I (10), 1904, № 21, 34–35).
Стремясь завладеть Уневским монастырем, еп. Арсений (Балабан) своими набегами на обитель нанес огромные убытки его братии во главе с архим. Анастасием (Радиловским). Это привело к тому, что в конфликт между архиереем и монастырем вмешался король Сигизмунд II Август, потребовавший от митр. Макария II принять меры к умиротворению ситуации вокруг Уневской обители. Митрополит позывной грамотой от 20 июля 1555 г. вызвал еп. Арсения (Балабана) на свой суд (АЗР, III, 1848, № 14, 66–67).
Львовский епископ не митрополичий суд не явился, прислав вместо себя своего сына — пана Василия Балабана. Но так как решение суда митр. Макария II было принято не в пользу львовского архиерея, еп. Арсений направил королю жалобу на самого митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. По итогам ее рассмотрения Сигизмунд II Август 11 октября 1555 г. вызвал митр. Макария в Краков на свой суд (АЗР, III, 1848, № 15, 67–68). Однако разбирательство у монарха так и не состоялось, так как митрополит вскоре скончался.
Несмотря на то, что при учреждении Львовской епархии декларировался особый статус ее архиереев как викариев митрополитов Киевских и Галицких по галицкой митрополичьей кафедре, как видно, уже при еп. Арсении (Балабане) началась борьба львовских владык за расширение своих прав до уровня типичного епархиального архиерея. Православная шляхта Галиции, из рядов которой вышел еп. Арсений (Балабан), судя по всему, была заинтересована в расширении прав епископа Львовского: это открывало больше возможностей влиять на его поставление, а затем и на самого епископа и даже заявлять свою кандидатуру на выборах архиерея. С учетом реалий церковной жизни того времени в Польско-Литовском государстве фактически речь шла о том, что православная шляхта Галиции стремилась «зарезервировать» за собой львовскую кафедру и стать ее коллективным опекуном, получив при этом преимущественное право определять кандидатуру епископа (правда, в дальнейшем семья Балабанов попытается пойти в этом вопросе еще дальше и вообще сделать львовское епископство наследственным в своем роду).
В то же время православные мещане Львова противились усилению львовского епископа, сознавая, что это приведет их к большей степени зависимости от архиерея-шляхтича и негативно скажется на жизни львовской православной церковной общины. Таким образом, уже в сер. XVI в. фактически формировались предпосылки того конфликта между Львовским Успенским братством и львовским епископом, который приобретет особую остроту к кон. XVI в. при сыне и преемнике еп. Арсения (Балабана) — еп. Гедеоне (Балабане).
На основании вышеизложенных фактов можно высказать следующие предположения.
Острый конфликт еп. Арсения (Балабана) со львовскими мещанами, а также содержание вышеупомянутой королевской грамоты-экспектативы еп. Макарию от 22 апреля 1558 г. позволяют предположить, что переход Львовской епархии под начало еп. Арсения (Балабана) произошел отнюдь не вследствие кончины еп. Макария (Тучапского), а в результате его устранения со львовской кафедры интригами Марка (Арсения) Балабана.
К данной интриге, возможно, был причастен львовский римско-католический архиепископ Петр Стажеховский, заинтересованный в ослаблении православной общины в Галиции и возвращении себе права назначать наместника православного митрополита в крае и возобновлении своего вмешательства в жизнь православных верующих Галиции.
Устранение еп. Макария (Тучапского) могло носить характер не только православно-католического, но и внутриправославного конфликта — между православными мещанами Львова и галицкой православной шляхтой, выразителем интересов которой выступал Марк Балабан (впоследствии еп. Арсений).
Устраненный со львовской кафедры преосвящ. Макарий (Тучапский), вероятно, был вынужден покинуть Львов, но сохранил при этом статус викарного архиерея при митрополите Киевском, Галицком и всея Руси (единственный среди всех архиереев Киевской митрополии), хотя и оставался фактически не у дел.
Смысл интриги с устранением еп. Макария (Тучапского) со львовской кафедры мог заключаться не просто в занятии его места еп. Арсением (Балабаном), но и в обретении им вместо статуса митрополичьего викария положения полноправного епархиального правящего архиерея, каковыми в дальнейшем и предстают в сохранившихся документах и сам еп. Арсений, и его преемники на львовской кафедре. То есть фактически произошло разделение изначально двусмысленно сформулированного статуса львовского архиерея: митрополичье викариатство осталось за владыкой Макарием (Тучапским), а Львовская епархия перешла к владыке Арсению (Балабану). Более того, можно допустить, что само устранение еп. Макария (Тучапского) с львовской кафедры могло быть мотивировано его викарным статусом, зафиксированным при его рукоположении во епископа, тогда как о принесении подобной присяги еп. Арсением (Балабаном) ничего не известно.
Таким образом, если изложенные предположения являются верными, то в еп. Макарии, фигурирующем в грамоте Сигизмунда II Августа от 1558 г., следует видеть не владыку Макария (Евлашевского), а покинувшего львовскую кафедру владыку Макария (Тучапского). Ситуация, при которой архиерей, лишившийся своей кафедры, но сохранивший статус митрополичьего викария, в дальнейшем просит короля о предоставлении ему новой епархии (владыка Макарий (Тучапский)), выглядит более реалистично, чем вариант, подразумевающий рукоположение архиерея без привязки к конкретной кафедре с последующим обращением к королю о предоставлении епархии и дальнейшим десятилетним пребыванием в неопределенном статусе.