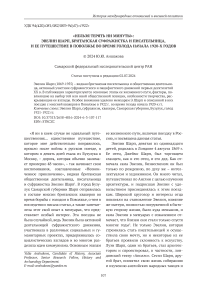«Нельзя терять ни минуты»: Эвелин Шарп, британская суфражистка и писательница, и её путешествие в Поволжье во время голода начала 1920-х годов
Автор: Аншакова Ю.Ю.
Рубрика: История международных отношений и внешней политики
Статья в выпуске: 3 т.6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Эвелин Шарп (1869-1955) - видная британская писательница и общественная деятельница, активный участник суфражистского и пацифистского движений первых десятилетий ХХ в. В публикации характеризуются основные этапы ее жизненного пути, факторы, повлиявшие на выбор той или иной общественной позиции, особенности творчества, раскрывающие ее взгляды. Особое внимание уделено мемуарам Э. Шарп и описанной в них поездке с миссией квакеров в Поволжье в 1922 г. во время голода начала 1920-х гг.
Эвелин шарп, суфражизм, квакеры, самарская губерния, бузулук, голод 1921-1922 гг
Короткий адрес: https://sciup.org/148330824
IDR: 148330824 | УДК: 94(420).081/082/083+94(47)»1922» | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-107-117
Текст научной статьи «Нельзя терять ни минуты»: Эвелин Шарп, британская суфражистка и писательница, и её путешествие в Поволжье во время голода начала 1920-х годов
EDN: STKCZC
«Я ни в коем случае не идеальный путешественник… единственное путешествие, которое мне действительно понравилось, прошло после войны в русском поезде, в котором я девять дней ехала из Бузулука в Москву, – дорога, которая обычно занимает примерно 48 часов», – так начинает свои воспоминания, озаглавленные «Неоконченное приключение», видная британская общественная деятельница, писательница и суфражистка Эвелин Шарп1. В город Бузулук Самарской губернии Шарп отправилась в составе миссии британских квакеров во время борьбы с голодом в Поволжье, о чем в последствии писала статьи, а также запечатлела этот свой опыт в мемуарах, что представляет особый интерес. Эта поездка не была случайной, ведь Эвелин была активной деятельницей суфражистского движения, участвовала в различных социальных и гуманитарных проектах, придерживалась социалистических взглядов и во многом разделяла идеи коммунизма. Основным этапам
Yulia Anshakova, Candidate of History, Associate Professor, Senior Research Fellow, History and Archaeology Department.
ее жизненного пути, включая поездку в Россию, и посвящена данная статья.
Эвелин Шарп, девятая из одиннадцати детей, родилась в Лондоне 4 августа 1869 г. Ее отец, Джеймс Шарп, был торговцем сланцем, как и его отец, и его дед. Как отмечала сама Эвелин, бизнесменом он был только по рождению, по духу же – интеллектуалом и художником. Он много читал, путешествовал по Англии с целью изучения архитектуры, и подросшая Эвелин с удовольствием присоединялась к этим поездкам. Широкий кругозор и интересы отца повлияли на становление Эвелин, влияние же матери, полностью погруженной в бытовую сторону жизни, было куда меньшим, и сама Эвелин в мемуарах с сожалением отмечает, что близки они стали только спустя многие годы2. Не только Эвелин, которая стремилась стать писательницей и осуществила свою мечту, но и некоторые из ее братьев проявили склонность к искусству. Луэн Шарп, один из братьев, стал архитектором и спроектировал, в частности, лондонский театр «Аполло». Сесил Шарп, другой брат, посвятил свою жизнь собиранию и изучению английских народных танцев и музыки, став значимой фигурой в британской фольклористике3.
Когда Эвелин исполнилось 12 лет, ее отправили учиться в школу для девочек Страталлан-хаус, и этот опыт, по ее словам, стал наиболее значимым в ее детстве. Новые знания, общение с директрисой мисс Спарк, учителями, подругами по школе, дали ей, помимо прочего, возможность развивать писательские навыки, а также привили интерес к социальной проблематике, в частности, положению женщины в современном обществе. Позже Эвелин отметит, что обучение в Страталлан-хаусе сформировало основу ее милитантских суфражистских убеждений, о которых буде рассказано ниже. Так Эвелин описывает свою встречу с мисс Спарк спустя много лет: «Когда моя пожилая директриса спросила, с некоторой тревогой, что сделало меня воинствующей суфражисткой, я ответила: «Учеба у вас, мисс Спарк», и по блеску в ее глазах поняла, что ответ ей понравился»4.
По окончании школы Эвелин больше всего хотела бы поступить в университет, как ее братья, но не получила поддержки от семьи и, по ее горькому замечанию, ей так и не удалось до конца подавить в себе обиду, вызванную разочарованием от того, что это желание наверняка исполнилось бы, будь она сыном, а не дочерью5.
Тем не менее, Эвелин занялась самообразованием, много читала, преподавала в сельской школе, несколько месяцев провела в Париже, где посещала лекции известных ученых в Сорбонне, и продолжала писать. В 1894 г. она решила начать самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и переехала в Лондон. Как она подчеркивает, для ее социального круга это было необычно, нормой для девушек среднего класса все еще считалось сидеть дома в ожидании потенциального супруга и выполнять различные «декоративные обязанности по дому», оставшиеся после того, как основными домашними делами уже занялись мать, старшие сестры и умелая прислуга. На первых порах Эвелин преподавала в школе и занималась репетиторством, а по ночам «писала в своей маленькой занавешенной каморке, с кроватью в роли стола и свечой в роли освещения, так как газ отключали в одиннадцать»6. Столь упорный труд принес свои плоды. Эвелин отправила рассказ в журнал «Желтая книга», а также роман в издательство «Бодли Хэд», и обе работы были приняты. И журнал, и издательство играли существенную роль в литературном контексте Британии 1890-х, они ассоциировались с такими провокационными литературными течениями, как эстетизм и декадентство, а само название журнала было связано со стандартной практикой того времени заворачивать запрещенные из-за непристойного содержания французские романы в желтую бумагу7. Шарп разделяла взгляды редакции на викторианские представления о месте женщины в обществе как на ханжеские и устаревшие, что нашло отражение как в написанных для «Желтой книги» рассказах, так и в других произведениях.
Собственный школьный, а также преподавательский опыт послужил основой для ее романов для девочек «Сотворение школьницы» и «Самая юная девочка в школе», где главные героини отличаются решительностью, находчивостью и самостоятельностью. В романе «Сотворение ханжи», который переиздается чаще других произведений Шарп, писательница исследует процесс превращения главной героини Люси из беззаботной и славной молодой девушки в осуждающую всех и вся самодовольную ханжу. Автор использует яркие образы и тонко развивает персонажей, что придает ее историям глубину и делает их увлекательным чтением и для современного читателя8.
Любопытны в отношении понимания ее взглядов и детские сказки Шарп, в которых она либо иронично, либо нестандартно отражает традиционные гендерные и социальные роли сказочных персонажей – принцев и принцесс, королей и королев, охотников, ведьм и т.д.9 К примеру, в одной из сказок очень самостоятельная принцес- са ищет себе в друзья самого храброго на свете мальчика, поскольку мальчики в ее стране постоянно ссорятся и дерутся по малейшему поводу, «и это невероятно скучно, если ты девочка», а самый смелый мальчик не будет драться без причины, и так у них появилось бы много времени для игр. Чуть позже появляется мальчик, которого другие мальчики считали самым трусливым на свете, – ведь он никогда не дрался без стоящей причины. Примечательно, что по сюжету, пока другие мальчики лупили друг друга по голове и мастерили катапульты, он научился писать, а также говорить на языке леса, и эти знания, а также чувство справедливости, храбрость и доброта и позволили ему найти принцессу и им обоим обрести счастье. В другой сказе принц, которого из-за заклятия никто не видит, кроме одной принцессы, сетует, что живет невидимкой всю жизнь, и его «слышат, но не видят», на что принцесса отвечает, что ее с детства (как добропорядочную викторианскую девочку – Ю.А.) учили, что ее должно быть «видно, но не слышно», и это тоже не слишком весело10. В еще одной сказке эксцентричная и волевая королева отказалась выходить замуж за какого-нибудь храброго портняжку «только потому, что он победил несколько великанов или перехитрил медведя», и подобрала себе в супруги принца, главным качеством которого оказалось умение во всем и всегда соглашаться с короле-вой11. Встречаются в текстах и пассажи, чья ирония в большей степени будет понятна взрослым, а не маленьким читателям, например, один премьер-министр, которому король задавал очень-очень много вопросов, «слишком хотел спать, чтобы выдумывать другие ответы, и ему пришлось сказать правду, и без сомнения, он стал бы гораздо лучшим премьер-министром, если бы всегда был слишком сонным, чтобы изобретать небылицы»12.
Издатели «Желтой книги» и «Бодли Хэд», среди которых стоит выделить Джона Лейна, ввели Шарп в круг своих авторов, некоторые из которых стали ее друзьями на всю жизнь, и чьи социально-политические воззрения были ей близки. Джон Лейн издавал многие из работ Шарп, включая вышедшие в 1933 г. мемуары. В декабре 1901 г. на катке Эвелин встретила журналиста и писателя Генри Невинсона. Невинсон также был христианским социалистом и активным сторонником прогрессивных идей, включая предоставление избирательных прав женщинам. Он прославился как журналист, в первую очередь, военный, его репортажи публиковались в самых авторитетных либеральных изданиях своего времени, включая «Манчестер Гардиан», «Дейли Кроникл», «Нейшен» и «Дейли Ньюс». В 1897 г. «Дейли Кроникл» отправила его на греко-турецкую войну, затем он освещал события Второй англобурской войны, а в последствии и Первой мировой. Вместе с тем, Невинсона занимали многие другие темы и события. Так, он путешествовал по Индии, где фиксировал признаки грядущих перемен, несколько месяцев провел в Анголе и рассказал в своих публикациях-расследованиях о подпольной работорговле и ее связи с производством какао. Очень активно освещались им события в Ирландии, приведшие к созданию Ирландской республики13. Невинсон неоднократно бывал в России, в частности, во время революции 1905-1907 гг. Он состоял в браке с Маргарет Уинн Джонс, известной суфражисткой, однако, начал отношения с Эвелин. И эти отношения, несмотря на семейный статус Невинсона и связи с другими женщинами, продлились всю жизнь, а в 1933 г., после смерти первой супруги, Не-винсон и Шарп поженились. Отметим, что хотя такие отношения не были обычными по буржуазным стандартам эдвардианского общества, они не были чем-то необычным в литературных и социалистических кругах, в которых вращались эти двое.
В первые же годы жизни в Лондоне Шарп стала более активно проявлять интерес к политике, социалистическим идеям, вступила в Фабианское общество, придерживавшееся реформистски-социалистических идей. Не-винсон помог ей найти работу в качестве автора статей для газет «Дейли Кроникл» и «Манчестер Гардиан», где она публиковала свои работы на протяжении более чем тридцати лет. Журналистская деятельность Эвелин позволила ей глубже понять проблемы женщин из рабочего класса. Она стала членом Женского промышленного совета и Национального союза обществ женского избирательного права, и именно суфражизм стал ядром и ее политических устремлений, и литературной деятельности.
Эвелин начала писать рассказы и очерки, которые были сосредоточены на кампании за избирательное право для женщин и содержали сочувственные изображения повседневного опыта суфражисток. Эти работы публиковались в периодических изданиях и газетах, включая выходившее с 1907 г. еженедельное издание «Голоса для женщин», основанное знаменитой четой суфражистов Эммелин и Фредериком Пе-тик-Лоуренсами, в последствии Шарп возглавила его редакцию14. Она стала членом Женского социально-политического союза (WSPU) а также одним из основателей Лиги суфражисток-писательниц, группы авторов, которые обязались использовать свои произведения для продвижения дела женского избирательного права15.
В 1910 г. Шарп издала сборник «Женщины-бунтарки», состоявший из 14 ранее опубликованных очерков. Эти очерки подобраны так, чтобы представить многообразие жизни суфражисток, их человеческий, а не расхожий карикатурный облик. Ее героини ведут агитацию среди настороженной публики и находят общий язык не только с другими женщинами, но и с мужчинами, решаются объясниться с консервативно настроенными родственниками, учатся побеждать на диспуте и не сдаваться, потерпев неудачи, быть стойкими и не забывать, что чувство юмора и самоирония – это надежные помощники в работе с людьми16.
Обеспокоенная тем, что может огорчить свою семью, Шарп изначально ограничила свою суфражистскую работу деятельностью, которая позволяла избежать ареста или тюремного заключения. Однако в 1911 г. она получила от матери письмо, в котором та признавала, что несмотря на ее страх за дочь, она принимает право Эвелин слушать свой внутренний голос и выбирать способ действия. Участие в последующих суфражистских акциях привело к нескольким тюремным заключениям для Шарп, в 1911 и 1913 г.17 Действия суфражисток-ми-литанток обычно были связаны с разрушением какой-либо собственности, например, метанием камней в окна официальных учреждений, вторжением в охраняемые здания типа парламента и т.д. Такая агрессивная тактика милитанток одобрялась далеко не всеми участниками движения и привела к расколу в нем, однако, стоит отметить что предыдущие несколько десятилетий борьбы законными методами ни к чему не привели, а действия милитанток способствовали росту внимания прессы, численности WSPU и, что немаловажно, пожертвова-ний18. Как писала сама Шарп, объясняя свой выбор милитантского направления, если считать право голоса для женщин политическим вопросом, то реформа всегда может немного подождать, но, если воспринимать его как вопрос свободы, как только ты понимаешь, что свободы у тебя нет, нельзя ждать ни минуты19. Тем не менее, не согласные с дальнейшей радикализацией WSPU участники движения, включая Шарп, создали в 1914 г. организацию «Объединенные суфра-жисты», возглавил которую Г. Невинсон.
Хотя большая часть активизма Шарп была сосредоточена на избирательном праве, она также протестовала против смертной казни и открыто придерживалась пацифистских взглядов до и во время Первой мировой войны. По ее словам, 6 февраля 1918 г., когда король подписал билль, дающий ограниченное право голоса женщинам, стал одним из счастливейших в ее жизни, тем не менее, он не стал окончанием ее активной общественной деятельности. Пацифистсткая позиция сблизила ее с Обществом друзей (квакеров), и работа за рубежом в составе гуманитарных миссий квакеров стала, как отмечает Шарп, следующим по важности этапом жизни. Эвелин не стала членом Общества друзей, однако восхищалась их безупречной отвагой, привычкой действовать без проволочек, а также абсолютным игнорированием викторианских стереотипов о трепетной женственности, женской слабости и т.п. «Я осознавала, что для меня нет морали выше христианской, что в своем изначальном смысле она была тем единственным, что может спасти мир, если что-либо может его спасти, и что квакеры – единственное известное мне религиозное сообщество (я не говорю об отдельных лицах в других сектах), которое искренне стремится жить по-христиански в нехристианском обществе», – так характеризует Шарп свое отношение к квакерам 20.
В мае-августе 1920 г. Эвелин работала в составе квакерской миссии в Берлине, ее задачей было оказание продовольственной помощи голодающим школьникам и студентам. В ходе совместной гуманитарной деятельности с квакерами Эвелин сблизилась с Рут Фрай, секретарем комитета помощи Общества друзей, поэтому когда прямо перед Рождеством 1921 г. Эвелин услышала, что Рут собирается в Советскую Россию с гуманитарной миссией, она попросила взять ее с собой, и очень обрадовалась согласию.
Эвелин Шарп приветствовала революцию 1917 г., сочувствовала коммунистической идеологии и даже обдумывала вступление в британскую компартию. В своих воспоминаниях она отмечает тот факт, что Советская Россия подверглась бессмысленной обструкции на Женевской конференции, что призыв Нансена о помощи голодающей России многими был проигнорирован, что о советском эксперименте распространяется много фантастической лжи, поэтому одной из целей ее поездки был сбор достоверной информации о ситуации в России и ее отражение в репортажах для британских газет21. Отметим также, что основным источником финансирования гуманитарной деятельности квакеров и Фонда спасения детей, другой британской гуманитарной организации, работавшей в России, были частные пожертвования, так что сочувственные и объективные публикации были и в их интересах22. Собственно, целью поездки Рут Фрай был сбор информации, способной убедить скептиков, что, во-первых, голод реален, и, во-вторых, что все отправляемое продовольствие поступает голодающим русским, а не Красной Армии.
Квакеры помогли Эвелин быстро получить заграничный паспорт, газета «Дейли Хералд», в которой она тогда работала, предоставила трехмесячный отпуск, а также печатала, пока она была в отъезде, отрывки из ее дневника. 1 января 1922 года Рут, Эвелин и Фред Бреннан, также сотрудник миссии помощи, отправились в путь с вокзала Виктория. В Москву они прибыли 7 января. Город поразил Эвелин своей непередаваемой красотой: воздух гудел от звука колоколов многочисленных церквей, их синие, красные, зеленые и золотые купола и колокольни ясно прорисовывались на фоне чистого неба и снега. Ее удивило такое количество открытых церквей, что противоречило распространенным в Англии слухам об их закрытии. Особенно запомнилась Эвелин длинная очередь в Иверскую часовню у входа на Красную площадь, поскольку прямо над ней висел транспарант с надписью «Религия – опиум для народа»: «…похоже, опиума в 1922 году еще было предостаточно, и когда мы с Джорджем Перри позднее в тот же день попытались зайти в белый храм Христа Спасителя на дальней стороне Кремля, мы не смогли пройти дальше двери, такой плотной была толпа внутри»23.
Эвелин в целом очень доброжелательно описывает Москву, отмечает, что советские работники работали чуть ли не круглосуточно, пытаясь решить насущные проблемы, что здесь она почувствовала себя как дома, поскольку «дух был важнее материи, а вечность важнее точного времени». Большое впечатление произвела на нее встреча с А. Луначарским, который рассказал о планах советского правительства в сфере просвещения детей и взрослых (разговор шел на французском). Эвелин и Рут также посетили лесные школы недалеко от Москвы. Ей запомнились похожий на волшебство заснеженный лес, дети в тулупах и меховых шапках, катающиеся на лыжах, маленький зверинец, в котором содержались животные, найденные ранеными, голодными или замерзающими в снегу, наряженная елка, скудное рождественское угощение из бледного чая, куска ржаного хлеба, крохотного кусочка сыра, кусочка сахара и горстки изюма и конфет, которое наверняка казалось детям просто сказочным. Дети станцевали гостям несколько народных танцев, спели Интернационал, обращались к гостям «товарищ» и произвели на гостей очень трогательное впечатление. Эвелин и ее спутники провели в Москве около недели, и эти несколько дней были «одними из самых приятных в России, поскольку они предшествовали абсолютному ужасу голода» 24.
12 января Эвелин и ее спутники выехали в Бузулук, центр Бузулукского уезда Самарской губернии, в котором с осени 1921 г. работала гуманитарная миссия квакеров. Эта дорога обычно занимала около 2 дней, но поскольку пути были заблокированы поездами, вставшими из-за снежных завалов, группе пришлось задержаться на два дня в Самаре. Как отмечает Эвелин, они теперь находились в черте голодающего региона, и приезд большого числа путешественников по этой железнодорожной линии не приветствовался. Все путешествовали со своей едой, купить что-либо по дороге было невозможно. На самарском вокзале рядом с их поездом стоял длинный состав с беженцами, и в нем в каждом вагоне-теплушке имелась печь для готовки и обогрева, и проживала одна или несколько семей, возвращавшихся из Сибири, куда они ранее отправились в поисках продовольствия. Беженцы жили в этом поезде неделями, и у многих была своя маленькая рождественская елка. Время от времени Эвелин видела, как из состава выносили труп умершего, или от тифа, или от голода.
Пока британская группа ждала в Самаре локомотив, прибыл еще один поезд из Сарато- ва, в котором ехал сэр Бенджамин Робертсон25, которого, на основании его опыта борьбы с голодом в Китае и Индии, Британский фонд борьбы с голодом и Международный Красный Крест отправили в Россию для изучения ситуации и подготовки отчета. Он также ехал в Бузулук. Вечером 15 января они наконец прибыла в штаб-квартиру миссии квакеров. Ее возглавлял Артур Уоттс26, а среди сотрудников Эвелин была рада встретить Вайолет Тиллард, старую знакомую по суфражистскому движению.
Первую ночь в Бузулуке Эвелин описывает так: «Еще до того, как пойти спать, я почувствовала атмосферу трагедии. Может, это было выражение лиц членов миссии, на которых запечатлелось виденное ими; а стоны, раздававшиеся за окном ночью, после чего утром на крыльце мы обнаружили мертвое тело, окончательно сформировали впечатление, не покидавшее нас на протяжении последующих недель» 27.
Сэр Робертсон и его сопровождающие тем временем также приехали в Бузулук и обнаружили, что положение дел как минимум столь ужасно, как и сообщалось, и через три дня после приезда Рут Фрай решила уехать с ними в Англию, чтобы как можно скорее обратиться к британскому общественному мнению28. По возвращении в Британию Робертсон опубликовал отчет, в котором описал положение России и призвал к оказанию немедленной помощи29. Всем, и сотрудникам квакерской миссии, и ее гостям, включая Эвелин, было ясно, что нельзя терять ни минуты.
После отъезда Робертсона и Фрай из Пав-ловки30, следующей за Бузулуком станции по железной дороге, пришло сообщение, что двое из сотрудников миссии помощи в этом селе слегли с тифом, поэтому Вайолет Тиллард тем же утром уехала ухаживать за больными. Эвелин было очень жаль так скоро расстаться с подругой, однако она и не представляла, что видела ее в последний раз, т.к. Вайолет вскоре умерла от тифа, хотя оба ее пациента выздоровели.
Так Эвелин на время оказалась единственной женщиной в Бузулкуской мис- сии, помимо Лидии, надежной и сведущей русской помощницы, которая выучила английский в Америке, и пожилой русской кухарки, «говорившей на каком-то своем собственном языке»31.
Эвелин с горечью отмечает, что не может описать сам голод в деталях, ведь некоторые несчастья столь огромны, что любое их описание кажется отчасти бессмысленным. Люди в Бузулуке умирали на улицах и в учреждениях со скоростью сто человек в день. Жертвами в основном являлись беженцы, голод гнал их из деревень, в которых не осталось совершенно никакого продовольствия. Она так описывает принятые властью решения: «Соответственно, учреждения были забиты до отказа, и власти, в сотрудничестве с Артуром Уотсом, сконцентрировались на том, чтобы спасти определенное количество людей, большинство из которых были дети, которых регулярно получали питание. В результате такой политики бессчетные толпы мужчин и женщин бродили без конца туда и обратно по холодным улицам, громко и жалобно стенали, пока не умирали». Как подчеркивает Эвелин, это было единственное возможное решение: если оказывать беженцам небольшую помощь, не удастся спасти какие-либо жизни вообще, и также было понятно, что здоровье этих несчастных страдальцев подорвано настолько, что по большому счету помочь им уже невозможно. «Сколь варварски жестоко казалось оставлять их умирать в снегу, а затем укладывать тела на казенные сани, как в нормальные времена вывозят мусор, но еще более жестоко было бы подобрать людей и продлить бесцельно их страдания. В Бузулуке я впервые осознала горькую точность выражения «тиски голода», и вскоре я достигла состояния, при котором испытывала благодарность при виде несчастного бедняги, ковыляющего по дороге, вялого, молчаливого и явно без сознания, так как понимала, что он больше не будет испытывать боли, и вскоре упадет и уснет вечным сном», – таковы были горькие выводы Эвелин32.
Крайне важным для нее стало понимание, что нельзя давать волю чувствам. В качестве примера приведен следующий случай: однажды вечером грузовик миссии, возвращавшийся со склада, не мог подъехать к воротам из-за лежащего там без сознания человека. Артур Уоттс объяснил присутствующим, в чем дело, и описал сходную ситуацию, когда другого умирающего сотрудники миссии занесли в дом и он очнулся, но лишь для того, чтобы заново пережить предсмертную агонию. Те, кто недавно присоединились к миссии, все еще колебались относительно человека у ворот, но он «милосердно разрешил проблему, испустив свой последний слабый вздох. И это был не последний вечер, когда ужин застревал у нас в горле».
На церковном дворе неподалеку, как пишет Эвелин, высилась гора из непогребенных тел, числом человек в четыреста, и она не уменьшалась, поскольку захоронить, даже неглубоко, в зияющей яме, выкопанной в твердой как железо земле, можно было не более ста человек в день. Избавиться от этого воспоминания о груде тел, похожей на гору хвороста, с трепещущими на ветру лохмотьями, оказалось невозможно: «в этих полуобнаженных телах, отощавших до костей, закоченевших, не было ничего человеческого, кроме несчастных лиц, смотрящих в небо, и странное величие было в том, что страдание в жизни не могло быть у них отнято в смерти. Этот вид не отпускал и влиял на некоторых наших сотрудников больше всего остального, но для меня это было столь огромно, что как бы подавляло чувства, как и некоторые другие вещи, которые мне довелось увидеть в те недели. В конце концов, я стала думать, что я просто стала бесчувственной, пока не произошло одно маленькое событие, заставившее меня вновь почувствовать себя живой».
Однажды воскресным днем один из сотрудников миссии предложил Эвелин прогуляться и попытаться немного развеяться. Они пересекли замерзшую реку и углубились в сельскую местность. Погода была прекрас- ной, солнце ярко светило, небо было восхитительно голубого цвета, и их настроение действительно улучшилось. Однако по дороге назад они наткнулись на лежащего в снегу мертвого мальчика. Было понятно, что он умер недавно, поскольку с него не был снят тулуп, как это всегда происходит с трупами, лицо мальчика не было исхудалым, так что скорее всего он умер от тифа или дизентерии. Эта сцена посреди великолепия природы заставила сердце Эвелин сжаться, а попытка «забыться» не увенчалась успехом33.
К счастью, сотрудники миссии всегда были загружены работой, это позволяло не срываться в слезы и сентиментальность. Эвелин обычно посещала детприемники, в которых дети, подобранные на улицах, ожидали либо распределения в детдома, либо отправки в санитарных поездах. Один из таких поездов приехал, когда Эвелин была в Бузулуке, и грузовик квакеров весь день перевозил к нему детей. Как она пишет, многие дети больше напоминали призраков, чем живых людей, некоторые были слишком слабы, не могли стоять, и их приходилось нести, но это было просто божественно – понимать, что с той минуты, как дети окажутся в поезде, у них будет квалифицированная помощь и еда, а детская память, к счастью, коротка. В самом лучшем из посещенных ей детприемников детей при поступлении мыли, выдавали одежду, однако, имелись и такие, где в санитарном отношении для детей ничего нельзя было сделать, и даже не было комнаты, где они могли бы сидеть, а зловоние было невыносимым. Детей только кормили и согревали, больше ничего. Одни терпеливо стояли рядами, прижимаясь к стенам, от которых чувствовалось тепло печки, а остальные жались друг к другу в недетском оцепенении. Услышав, что привезли еду, дети начали улыбаться и благодарить на русском, а Эвелин поняла, что в улыбке может скрываться трагедия, когда увидела ее на лице одного из детей, который был на грани смерти из-за отсутствия того, в чем никто не должен испытывать нужды34.
Эвелин подчеркивает, что находилась в Бузулуке в самый худший момент голода, и ситуация со временем начала улучшаться, поскольку стала поступать организованная систематическая помощь, продовольствие доставлялось в деревни, и исчезла основная причина появления толп беженцев в городах.
В завершение своего рассказа о поездке в Поволжье Эвелин отмечает, что видела много ужасного, трагичного, безумного, и о самом худшем решила не упоминать, однако, у нее возникло некое сложно передаваемое ощущение зарождения чего-то совершенно нового. Русская революция была жестокой, как все революции, но, несмотря ни на что, «русский эксперимент продолжается»35.
Вернувшись на родину, Эвелин продолжила заниматься общественной деятельностью и журналистикой. В 1933 г. она опубликовала свою автобиографию, что стало последним значительным литературным произведением в её карьере. В том же году она написала либретто для комической оперы «Отравленный поцелуй» в сотрудничестве с композитором Ральфом Воном Уильямсом. Как и ее брат Сесил, она разделяла интерес к традиционному английскому танцу и музыке.
В январе 1933 г., как уже упоминалось, Эвелин вышла замуж за Генри Невинсона, и это событие в своих мемуарах, озаглавленных «Неоконченное приключение», с присущей ей иронией, она называет своим следующем приключением, самое великим, потому что самым обычным. Размышляя о пройденном пути, пережитом, увиденном, она пишет, что пришла к следующему заключению: человек значительнее событий. Мировая война может опустошить вашу страну, голод может заставить вашего обезумевшего соседа съесть своих детей и затем умереть от сотворенной мерзости, друзья могут покинуть, возлюбленный предать, карьера разрушиться, но эти страдания переплавляются внутри человека в силу, способную преобразовать ужасное во что-то прекрасное36.