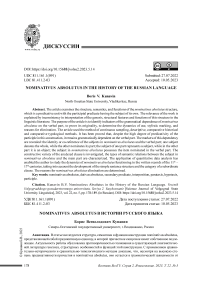Nominativus absolutus в истории русского языка
Автор: Кунавин Б.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются структура, семантика и функции конструкции nominativus absolutus, представляющей собой предикативную единицу, в которой причастное сказуемое имеет собственное подлежащее. Актуальность работы обусловлена противоречивостью толкования в существующей лингвистической литературе генезиса, структурных особенностей и функций этой конструкции. С применением сравнительно-исторического и сравнительно-типологического методов доказано, что, несмотря на высокую степень предикативности причастия в nominativus absolutus, оно остается в грамматической зависимости от глагольной части. Установлены маркеры данной зависимости: тождественность или кореферентность подлежащих nominativus absolutus и глагольной части; одно подлежащее обозначает целое, а другое - его часть; подлежащее одной части обозначает субъект, а другой - объект; субъект nominativus absolutus - обладатель предмета, обозначенного в глагольной части. Представлено конструктивное многообразие анализируемой клаузы и охарактеризованы типы семантических отношений между подлежащими в nominativus absolutus и главном предложении. С привлечением количественных данных показана динамика функционирования nominativus absolutus, нашедшая отражение в памятниках письменности XI-XVII веков. С учетом развития строя простого предложения и категории придаточного предложения определены причины утраты конструкции nominativus absolutus.
Nominativus absolutus, dativus absolutus, второстепенное сказуемое, интерпозиция, паратаксис, гипотаксис, причастие
Короткий адрес: https://sciup.org/149145087
IDR: 149145087 | УДК: 811.161.1(091) | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.5.14
Текст научной статьи Nominativus absolutus в истории русского языка
DOI:
Характерной особенностью древнерусского синтаксиса является наличие в нем абсолютивных причастных оборотов: nominativus absolutus, dativus absolutus, genetivus absolutus. Конструкцию nominativus absolutus, представляющую собой сочетание именного действительного причастия в роли сказуемого при собственном подлежащем, в древнерусском языке впервые выделил А.А. Потебня, назвав ее «именительный самостоятельный» [Потебня, 1958, с. 197]. В дальнейшем суждение А.А. Потебни о данной синтаксической конструкции было поддержано многими филологами [Борковский, 1949, с. 210; Večerka, 1959, s. 38; Růžička, 1963, S. 227; Ferrand, 1983, p. 65; и др.].
Следует заметить, что некоторые исследователи, находясь под впечатлением современного языкового восприятия, определяли именительный самостоятельный (далее – ИС) в качестве анаколуфов с опущенным сказуемым [Кудрявский, 1916, с. 50–51]. Однако уже А.А. Потебня обоснованно предостерегал от подобного допущения [Потебня, 1958, с. 197– 198]. С.Д. Никифоров считал, что в данных оборотах опущена глагольная связка при причастном предикативе [Никифоров, 1952, с. 202]. На неубедительность подобного суждения неоднократно указывалось многими исследователями [Кацнельсон, 1949, с. 352; Потебня, 1958, с. 202; и др.].
Все языковеды, считавшие ИС тождественным самому себе, указывали на высокую степень предикативной силы причастия в его составе [Потебня, 1958, с. 197; Večerka,
1959, s. 38; Růžička, 1963, S. 226; и др.]. Вместе с тем источники этой силы истолковываются по-разному. Некоторые исследователи объясняют данный факт тем, что в доисторическую эпоху ИС были именными предложениями [Эгипти, 2002; Zubaty, 1954, s. 106; Večerka, 1959, s. 37; Růžička, 1963, S. 227; Havránek, 1937, s. 115–117; Trávniček, 1956, s. 179–190; Barnet, 1965]. Согласно приведенному мнению, причастия в составе анализируемых оборотов в доисторическом прошлом представляли собой именные сказуемые, а после того, как были вовлечены в систему глагольных форм, преобразовались в причастные предикаты. Однако подобная траектория возникновения ИС не может быть принята в силу ее асистемности, поскольку в ней генезис ИС оторван от происхождения абсолютивных косвенных падежей. Большинство ученых обоснованно утверждают, что последние восходят к зависимым косвенным падежам вследствие сдвига синтаксического членения, что повлекло «вычленение из структуры простого предложения зависимого падежа с причастием и его функциональное сближение с придаточным предложением» [Куна-вин, 2008, с. 6] (ср. также: [Curtius, 1870, S. 202; Miklošich, 1883, S. 615; Потебня, 1958, с. 334– 335; Kuehner, 1904, S. 79; Delbrueck, 1897, S. 494; Brugmann, 1904, S. 609; Vondrak, 1928, S. 403; Булаховский, 1958, с. 440–441]). Указанная точка зрения убедительна, поскольку учитывает динамику усложнения человеческой мысли и ее отражения в языке.
Превалирование паратаксиса над гипотаксисом в древних языках, недостаток средств выражения подчинительной связи между частями сложного предложения способствовали закреплению в данной функции причастного предиката с собственным субъектом, поскольку такой предикат самой своей формой косвенного падежа служил выражению этой связи.
Однако генезис ИС, в котором причастное сказуемое и связанный с ним субъект стоят в форме прямого падежа, не может быть истолкован таким же способом. Вместе с тем важно учитывать, что ИС и дательный самостоятельный оборот (далее – ДС) в древнерусской синтаксической системе являлись книжными оборотами речи и представляли сущности одного порядка, но не следует к проблеме генезиса ИС подходить упрощенно, как это делают исследователи, считавшие ИС трансформировавшимся ДС [Miklošich, 1883, S. 837; Jagič, 1899, S. 72; Соболевский, 1907, с. 226]. Примечательно в этой связи противоположное суждение по данной проблеме Е.Ф. Будде, утверждавшего, что ДС – преобразованный ИС [Будде, 1917, с. 60].
Подобно ДС, ИС находился в зависимости от глагольной части предложения и появился, как и ДС, для выражения гипотактических отношений в условиях неразвитых средств выражения подчинительной связи, поэтому, по справедливому указанию Б. Дельбрюка, его возникновение нельзя относить к древнейшему периоду развития языка [Delbrueck, 1897, S. 493].
В отличие от ДС показателем зависимости ИС от глагольной части служили, с одной стороны, сама форма причастия, с другой – взаимная связь их субъектов. ИС всегда находился в зависимости от глагола-сказуемого и вне связи с ним не мог использоваться. Если учесть, что ДС в древнерусском языке, подобно genetivus absolutus в греческом, содержал указание на субъект, неупоминаемый в глагольной части, то следует признать несостоятельность объяснения генезиса ИС трансформировавшимся ДС. Появление ИС, как и ДС, было обусловлено необходимостью выражения зависимости одной части предложения от другой при недостаточном инвентаре средств выражения подчинительной связи, поскольку причастное сказуемое в ИС самой своей формой маркировало зависимый характер ИС, на что указывал уже А.А. Потебня: «...личный глагол есть непременное условие лишь полносильного, первостепенного сказуемого, а в сказуемых второстепенных, зависимых, причастие само по себе есть именно средство обозначения их зависимости» [Потебня, 1958, с. 221]. Недостаточное обоснование данного суждения специальными исследованиями конструкций ИС в истории русского языка привело к тому, что причастное сказуемое в нем стали приравнивать к предикату в verbum finitum [Георгиева, 1961, с. 159]. В доказательство этой точки зрения приводятся отдельные примеры, в которых причастное сказуемое является единственным (без глагольного) в простом предложении, а также в главной части сложноподчиненного предложения. В.Л. Георгиева полагает, что подобные факты свидетельствуют об усилении глагольности причастия в истории русского языка [Георгиева, 1968, с. 44]. Однако такое допущение с учетом трансформации именных действительных причастий в деепричастия представляется невероятным. А.В. Сахарова, ссылаясь на суждения о фоновой предикации П. Хоппера, С. Томпсона, С.Х. Дрю, [Hopper, 1979; Thompson, 1987; Dry, 1983], пытается рассмотреть предикативные свойства древнерусского причастия в ИС с прагматической точки зрения [Сахарова, 2007, с. 13–16]. Проведенные ею наблюдения свидетельствуют о сходстве предикации причастий в ИС и одноподлежащных конструкциях, что косвенно свидетельствует о происхождении ИС из одноподлежащных оборотов.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, большой значимостью ИС в системе древнерусского синтаксиса, выражающейся в свидетельстве о неразвитости в нем гипотаксиса, строя простого предложения и в превалировании паратаксиса, а с другой – невыясненным генезисом и грамматическим статусом ИС, неисследованным конструктивным многообразием, необходимостью объяснения редких случаев употребления в современном русском языке так называемого независимого деепричастного оборота, субъект которого не совпадает с субъектом глагольного сказуемого.
Для решения проблем генезиса и грамматического статуса ИС, стилистической маркированности, а также причин его развития и утраты необходимо изучение конструктивного многообразия ИС и динамики их использования на протяжении всей истории русского языка, что требует установления структурного отличия ИС от ДС, доказательства относительной грамматической самостоятельности ИС от глагольной части, выявления причин возникновения так называемых независимых ИС, определения частотности употребления ИС, их стилистической принадлежности и причин исчезновения.
Материал и методы исследования
В исследовании применены сравнительно-исторический, сопоставительно-типологический методы, а также прием количественной характеристики. Материалом исследования послужила личная картотека автора: 1227 конструкций с контекстами, содержащими ИС, извлеченными методом сплошной выборки из памятников письменности XI– XVII веков.
Результаты и обсуждение
Причастное сказуемое в ИС, так же как и в односубъектных конструкциях, выполняло роль второстепенного сказуемого и всегда было зависимо от сказуемого-глагола в финитной форме. Эта зависимость эксплицировалась путем раскрытия семантических отношений между субъектами ИС и глагольной части. Проанализированный материал позволил распределить указанные отношения следующим образом: 1) подлежащие ИС и глагольной части тождественны; 2) подлежащие кореферентны, то есть разнятся, но обозначают один и тот же субъект; 3) одно подлежащее обозначает целое, а другое – его часть; 4) подлежащее одной части обозначает субъект, а в другой – объект; 5) субъекту, указанному в ИС, принадлежит предмет, обозначенный в главной части.
ИС относительно глагольной части являются препозитивными и постпозитивными, причем преобладают препозитивные; соединяются с глагольной частью как посредством со- чинительного союза, так и без него, союз обычно используется для связи препозитивного ИС с причастием в форме прошедшего времени, то есть отчетливо прослеживается полная аналогия с одноподлежащными оборотами. Таксисные отношения между причастным и глагольным действиями в составе исследуемых конструкций также аналогичны отношениям в конструкциях с одним подлежащим. Семантические типы причастий и динамика их употребления в ИС те же, что и в одноподлежащных конструкциях. Динамика употребления различных типов ИС по памятникам письменности XI–XVII вв. неодинакова.
ИС в качестве живой синтаксической конструкции просуществовал до XV в., хотя по традиции употреблялся до XVII в., а единично встречался в текстах XVIII в. и даже в современном языке, но подобные конструкции уже не были связаны с древнерусским ИС.
В начале письменной традиции ИС, видимо, уже представлял собой архаичный синтаксический оборот, а интенсификация его функционирования была обусловлена потребностью в выражении сложных мыслей в книжном языке при дефиците средств выражения подчинительных связей.
-
1. Обороты с идентичными подлежащими в ИС и глагольной части довольно редки (10 % от общего количества конструкций с ИС). Одинаковые подлежащие в частях исследуемого синтаксического построения служат их тесной связи. Такой конструктивный тип представляет собой древнейшее синтаксическое согласование протасиса и аподозиса сложного предложения, носящее «действительно элементарный, изобразительный, иконический характер» [Степанов, 1989, с. 72]. Подлежащие здесь обычно бывают выражены местоимением или именем существительным, другие части речи в такой функции редки. Особенностью таких конструкций является частое разделение ИС с глагольной частью придаточным предложением. При этом ИС обычно стоит в препозиции относительно части с verbum finitum, а причастия имеют значение чувственного или интеллектуального восприятия:
-
(1) Ув h дав же Ярославъ се, яко изъимани данницы, Ярославъ же стояше на Медв h дици в сторожих (ПЛДР, вып. 1, с. 246).
В исследованных материалах имеют место и такие синтаксические обороты, в которых ИС и глагольная часть имеют общее подлежащее, однако в интерпозиции они далеко расположены друг от друга, что приводит к ослаблению связи между ними, и клауза с причастием в вершине рассматривается в качестве ИС:
-
(2) Он же глаголаше к ним: «Аще бысте челов h ци были, то въ дьне ходили бысте, а вы есте тма и въ тм h ходите», и знаменався крестом (ПЛДР, вып. 2, с. 612).
Впервые такие ИС выделил А.А. Потебня [Потебня, 1958, с. 199–200]. Есть все основания рассматривать данный конструктивный тип ИС в качестве наиболее архаичного, поскольку он вычленяется только на уровне синтагматики. Именно этот тип стал исходным для конструкций с идентичными подлежащими. Появление ИС рассматриваемого типа свидетельствует о том, что при условии ослабления связи между главным и второстепенным сказуемым из-за далекого их разнесения эта связь восстанавливается за счет повторного употребления подлежащего. Такой синтаксический прием установления связи между второстепенным и главным сказуемым в определенной мере компенсировал недостаточное развитие средств выражения подчинительных связей в древнерусском языке. В отличие от конструкции (2) обороты с контактным расположением ИС и глагольной части характеризуются более высоким уровнем грамматикализации, поскольку одинаковые подлежащие при ИС и глагольной части просто маркируют определенную независимость и автономность ИС:
-
(3) Тъгда Антоний , въ скърби велиц h бывъ и въшедъ въ пещеру, моляаше блаженааго Антоний (ПЛДР, вып. 1, с. 320).
В поздних памятниках письменности XVI– XVII вв. такие ИС единичны:
-
(4) « Судиа же виде , и помысли , что от друго-ва суда други узел сулит злата, глаголя попу судия » (ПЛДР, вып. 11, с. 183).
-
2. Обороты с разными подлежащими, обозначающими один и тот же субъект речи, составляют около 10 % от общего количества исследуемых конструкций. Наиболее часто в оборотах данного конструктивного типа в одной из частей подлежащее выражается существительным, а в другой – идентифицирующим его указательным или определительным местоимением:
Рассмотренные синтаксические построения характеризуются структурной близостью с одноподлежащными оборотами, в которые легко трансформируются за счет опущения одного из подлежащих.
-
(5) Б h ша же и боляре мнози присьли, и ти пр h дъ враты стояще (ПЛДР, вып. 1, с. 390).
В приведенном примере ИС соединен с глагольной частью посредством сочинительного союза. Однако такую конструкцию не следует отождествлять со сложносочиненным предложением, как это делает В.И. Борковский, поскольку употребление союза здесь аналогично его использованию в оборотах типа вставъ и рече , а также в случаях соединения сочинительным союзом дательного самостоятельного с глагольной частью, придаточной части с главной в сложноподчиненном предложении. Приведенная конструкция только внешне кажется паратактической, фактически же она имеет гипотаксический характер (гипотаксические отношения выражены в ней специфическим для древнерусского синтаксиса способом).
В некоторых оборотах подлежащие глагольной части и подлежащие ИС, обозначая один и тот же субъект, называют его по-разному, представляя собой референциальное тождество:
-
(6) Не разум h в же Феодоръ б h са его суща, мн h въ , яко братъ ему сие глаголетъ, к нему же отв h ща блаженный (= Феодоръ. – Б. К. ) (ПЛДР, вып. 2, с. 574).
В приведенном примере выступающее в глагольной части в роли подлежащего субстантивированное прилагательное блаженный в отличие от подлежащего ИС заключает в себе оценочный компонент. В данный конструктивный тип следует включить обороты, в которых однородные подлежащие одной части выражают субъекты, в сумме равные единому субъекту-подлежащему другой:
-
(7) Отець же его и мати разумъ имуща святого писаниа не худ h , и та (= отець + мати. – Б. К. ) поведаста иер h ове (ПЛДР, вып. 4, с. 268).
Примечателен следующий пример, в котором однородные подлежащие при общем причастном предикате в ИС коррелируют в глагольной части с теми же подлежащими, но имеющими отдельные сказуемые в финитной форме:
-
(8) Левкодушъ же и Врионушъ листъ матери своеи прочетше, Левкодушъ же матери своеи зазр h въ и посм h яся , Врионушъ же зелие то вземъ и сохрани (ПЛДР, вып. 5, с. 164).
Отношения между подлежащим ИС и глагольной части, подобные отношениям в конструкции (8), прослеживаются и в следующем примере:
-
(9) Дв h убо жабы собою сос h дствующи : па-сяху же ся едина убо в езер h , другая же близ пути, мало имущи воды (ПЛДР, вып. 11, с. 42).
Существенно, что Р. Ружичка приводит из евангельских текстов старославянского языка похожую конструкцию, калькированную с греческой: Дв h мелюшти въ жрънвахъ едина поемлетъ ся ... и едина оставл h ет ся . Комментируя этот пример, Р. Ружичка ссылается на наблюдение Х. Ризенфельда, указывающего на употребление таких оборотов Гомером в древнегреческом языке [Růžička, 1963, S. 101]. Данный факт свидетельствует о недопустимости истолкования ИС как трансформированного ДС вследствие утраты именными действительными причастиями форм словоизменения.
Иногда встречаются такие конструкции, в которых субъект одной части предстает в другой в расширенном виде за счет дополнительного субъекта:
-
(10) И слышав же сие король , но яко князь великий грядет противу со многою силою и начас-та (король + князь. – Б. К. ) межи себя послы ссыла-ти (ПЛДР, вып. 5, с. 328).
В приведенном примере подлежащее в глагольной части не упомянуто, но о нем отчетливо сигнализирует форма двойственного числа третьего лица аориста, выступающая в роли сказуемого. В следующей конструкции, наоборот, контекстуально сигнализированное подлежащее, представляющее собой сумму субъектов глагольной части, опущено в ИС:
-
(11) Александръ же с h де на великомь на своем престоле, о правую же страну с h де его мати Алимпияда , о левую же страну с h де Роксана , жена его, и ту веселящеся (Александръ + Алимпияда + Роксана. – Б. К. ) много (ПЛДР, вып. 5, с. 162).
Форма множественного числа причастия в именительном падеже мужского рода весе-лящеся свидетельствует о множественности субъектов в ИС, которые в данном случае опущены.
Причастие прошедшего времени в ИС в постпозитивном положении по отношению к глагольной части имеет результативное значение:
-
(12) А окаанный Магумет , собрав воин своих, раздели имъ м h ста къ приступу... сам же безверный нарек себя посреди их... и тако урядив скверный (ПЛДР, вып. 5, с. 246–248).
3.
Значительно чаще, чем рассмотренные выше, встречаются конструкции, в которых субъекты глагольной части и ИС соотносятся как целое и его часть. Они составляют около 30 % от всего количества оборотов с ИС. Приведем пример такой конструкции:
Причастные предикаты в обоих ИС имеют результативное значение, обозначая действие, следующее после действия, обозначенного глаголом раздели в форме аориста. И.Б. Кузьмина и Е.В. Немченко к подобным конструкциям возводят диалектный севернорусский перфект типа он пришедши [Кузьмина, Немченко, 1980, с. 158].
-
(13) Пришедше (Василко и татары. – Б. К. ) подъ городъ, и нача молвити Василко горожаномъ (ПЛДР, вып. 3, с. 350).
Приблизительно в таком же количестве встречаются конструкции, в которых субъект глагольной части складывается из субъекта и дополнения ИС, то есть подлежащее в глагольной части предстает в расширенном виде. При этом субъект при глаголе не получает грамматического выражения, о нем сигнализирует окончание множественного или двойственного числа данного глагола:
-
(14) Мьстислав же сдумавъ с новъгородци, и послаша (Мьстислав с новгородцами. – Б. К. )
Добрыню Рагуловича передъ собою въ сторон h (ПЛДР, вып. 1, с. 246).
Необычайно редко такие обороты речи встречаются в позднейших памятниках с неизменяемой формой причастия:
-
(15) И посид h въ (родственники. – Б. К. ), уч-неть говорить от жениха отецъ или иной сродственник (ПЛДР, вып. 11, с. 278).
В следующем примере подлежащее ИС в глагольной части предстает в расширенном виде за счет использованного при нем зависимого члена:
-
(16) Изяслав же се вид h въ , со Всеволодомъ побегоста з двора (ПЛДР, вып. 1, с. 184).
К таким конструкциям близки обороты, в ИС которых употреблены два однородных подлежащих, причем причастный предикат согласуется с ближайшим, а глагольное сказуемое – с обоими:
-
(17) Се слышавъ Володарь и Василко, поидо-ста противу, вземша крест (ПЛДР, вып. 1, с. 260).
4
. До 30 % от общего количества ИС составляют обороты, в которых подлежащее ИС выступает в синтаксической роли дополнения в глагольной части или наоборот. В сравнении с рассмотренными типами отношений причастное сказуемое в таких конструкциях обладает более высокой предикативной силой, так как его субъект отличен от субъекта глагольной части:
-
(18) Святополъкъ же посла Путяту , воеводу своего, Путята же с вои пришедъ к Лучьску (ПЛДР, вып. 1, с. 26).
Примечательны конструкции, в которых дополнение глагольной части разделяется на дополнение и подлежащее в ИС:
(19) Бьсть же страх на обоих – едини других боящеся (ПЛДР, вып. 5, с. 516).
5. В исследованных материалах встречаются конструкции, в которых субъект ИС пред- ставляет собой обладателя предмета, упомянутого в глагольной части, или наоборот:
Такой тип связи частей предложения чрезвычайно древний, на что указывал еще Э. Шви-цер [Schwyzer, 1950, S. 6].
-
(20) Святослав же слышавъ матерни глаголы, слез исполнистася очеса его (ПЛДР, вып. 7, с. 284).
Семантически независимые субъекты ИС и глагольной части имели в древнерусском языке место лишь в том случае, если их предикаты либо находились в синонимических отношениях, либо были семантически тождественны:
-
(21) И абие стратигъ к лову приехавъ , а юноша к Девгению с вестью приспе (ПЛДР, вып. 3, с. 50).
Как показали проведенные наблюдения, важнейшим конститутивным признаком ИС является семантическая связь его субъекта с субъектом глагольной части или, реже, предиката с предикатом глагольной части. Однако важно подчеркнуть, что уже в начале письменной традиции исследованные обороты представлялись архаичными, утрачивающими свой дифференциальный признак, о чем свидетельствуют случаи употребления независимых ИС уже в ранних памятниках:
-
(22) Въ единъ бо дьнь пришьдъши мати ему (ПЛДР, вып. 1, с. 320).
Случаи такого употребления ИС и ДС приводятся разными исследователями [Георгиева, 1961, с. 159; Corin, 1995; и др.]. Однако количественный анализ показал, что в памятниках до XV в. независимые ИС составляют всего 10 % от их общего числа, в текстах же XVI в. – 80 %, а XVII в. – 90 %. Подобная динамика отражает не усиление предикативности именного действительного причастия, уже преобразовавшегося в деепричастие, а процесс ее ослабления. ИС, независимые от глагола в форме verbum finitum, свидетельствуют об их преобразовании из грамматического явления в своего рода стилистическое средство, усиливающее варьирование глагольных форм в функции предиката. Определенное влияние на распространение в поздних памятниках независимых ИС оказала утрата простых претеритов – имперфекта и аориста. Поскольку аорист и причастие прошедшего времени, видимо, совпали в сознании писца по своему грамматическому значению (обозначали законченное действие), а имперфект и причастие настоящего времени выражали незаконченное действие, то они начинают смешиваться и на письме. Более того, именное действительное причастие настоящего времени мужского рода множественного числа в именительном падеже имело графическую форму, близкую форме имперфекта, что позже способствовало их смешению. Интересны в данном случае гиперпричастные формы, в которых контаминированы причастные и имперфектные суффиксы:
-
(23) Он же и до смерти глаголаще (ПЛДР, вып. 11, с. 301).
По данному примеру трудно определить, какую из традиционных форм, уже исчезнувших в живом языке, намеревался использовать книжник: форму причастия настоящего времени множественного числа или форму имперфекта третьего лица единственного числа. Однако такие конструкции наглядно свидетельствуют об исчезновении как ИС, так и имперфекта.
В абсолютном исчислении динамика функционирования ИС в исследованных текстах выглядит следующим образом: XI в. – 72 конструкции; XII в. – 96; XIII в. – 121; XIV в. – 108; XV в. – 116; XVI в. – в среднем по 119 конструкций в томе. В памятниках XVII в. частотность употребления ИС такая же, что и в памятниках XVI века. Важно отметить, что в качестве «живого» явления ИС сохранялся только до XV века. В XVI– XVII вв. превалируют независимые ИС, свидетельствующие об исчезновении истинных nominativus absolutus, поскольку они утратили свои дифференциальные признаки, маркирующие зависимость от verbum finitum.
Представляя собой архаическую конструкцию, ИС в отличие от ДС, свойственного книжному языку, встречается в текстах с выраженными народными чертами:
-
(24) И при h хав друшка к новобрачному, и они отпустят сваху в санях (ПЛДР, вып. 11, с. 180).
В целом в силу своей архаичности ИС также был характерен и для памятников с книжными чертами языка. В структурном отношении ИС резко отличался от ДС. Отношения между субъектами ИС и глагольной части, идентичные отношениям между субъектами ДС и глагольной части, редки. То, что ИС не может быть истолкован в качестве преобразованного ДС, хорошо подтверждается и так называемыми ИС-штам-пами и ДС-штампами [Кунавин, 2008]. Встретился единственный пример ИС-штампа из текста XVII в., совпадающий по структуре со ДС-штампом:
-
(25) И мало время минувше , укажет царь царевнину отцу и матере (ПЛДР, вып. 11, с. 258).
При этом ДС-штамп малу времени ми-нувшу в древнерусских текстах встречается очень часто. В конструкциях с ИС отсутствовали условия для развития грамматической категории деепричастия в силу относительной самостоятельности в нем причастного предиката. Примечательно, что в памятниках до XV в. встретилась 21 анализируемая конструкция с несогласованным причастием, что представляет ничтожно малую величину. Причем большинство таких ИС являются независимыми, то есть уже утратившими свой конститутивный признак:
-
(26) И о воскресеньи рекъша Давыдъ (ПЛДР, вып. 1, с. 116);
-
(27) Отв h щав же имъ срацыняне (ПЛДР, вып. 3, с. 30).
В памятниках после XV в. в исследованных оборотах причастия в неизменяемой форме встречаются чаще. Впрочем, книжники всегда стремились к употреблению в этих архаичных конструкциях правильно согласованных причастных форм.
Вследствие прямолинейного логического параллелизма, осуществляемого в книжном языке между местоименными и именными действительными причастиями, книжники искусственно в редчайших случаях использовали в ИС местоименные формы причастий:
-
(28) А глаголяй сице (ПЛДР, вып. 2, с. 606);
-
(29) Не в h дый диаволъ , яко большю в h нцю исходатай будет има (ПЛДР, вып. 2, с. 580).
Искусственный характер подобного употребления полных форм причастий подтверждается и тем, что, как правило, они имеют место в независимых ИС.
В современном русском языке изредка встречаются, особенно в публицистических текстах, конструкции, в которых деепричастие не относится к субъекту действия главного сказуемого. П.Д. Богданов приводит примеры подобного употребления деепричастий из произведений русской классической литературы XIX в. таких крупнейших авторов, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Герцен и др.: Бродя по улицам, мне наконец пришел в голову один приятель... (Герц., Былое и думы, VIII) [Богданов, 1977, с. 126]. Следует заметить, что употребление таких оборотов речи вызывало протест уже у лингвистов XIX в., которые связывали их появление с французским влиянием [Давыдов, 1852, с. 355; Буслаев, 1959, с. 344]. Однако П.Д. Богданов, Г.В. Валимова полагают, что они являются продолжением древнерусских ИС [Богданов, 1977, с. 125; Валимова, 1945, с. 47]. Проведенные за древнерусскими ИС наблюдения противоречат подобному допущению, поскольку конструктивно такие современные обороты отличаются от ИС и, действительно, больше напоминают французские конструкции с герундием. Впрочем, обороты, в которых деепричастие имеет субъект действия, отличный от субъекта глагольного предиката, нередко встречаются в школьных сочинениях, что свидетельствует о недостаточном владении нормами литературного языка. Важно подчеркнуть, что разносубъектные конструкции с деепричастным оборотом затрудняют восприятие текста, искажают его смысл.
Заключение
Проведенное исследование показало, что ИС в древнерусском языке были оригинальными оборотами, которые отличались значительным конструктивным разнообразием и характеризовали определенное состояние древнерусского языка. В условиях неразвитого гипотаксиса, недостаточности инвентаря для выражения подчинительных связей в древнерусском языке ИС были удобным средством выражения зависимости одной части предло- жения от другой. Однако конструкции с ИС не тождественны сложным предложениям по причине значительной зависимости ИС от глагольной части. В синтаксисе древнерусского языка они занимали промежуточное положение между сложными предложениями и одноподлежащными оборотами с именным действительным причастием. В силу конструктивных различий ИС не могут быть генетически возведены к преобразованному ДС. Вместе с тем наличие тесной семантической связи между субъектами ИС и глагольной части опровергает мнение тех исследователей, которые считают, что ИС генетически восходят к древнейшим самостоятельным именным предложениям. На основе полученных данных можно предположить, что ИС возникли в результате усложнения одноподлежащных глагольных конструкций с именным действительным причастием вследствие появления у последнего собственного подлежащего, семантически связанного с подлежащим глагольной части. Основной причиной утраты ИС следует признать развитие строя простого предложения, инвентаря средств выражения подчинительной связи (союзов, союзных слов), категории придаточных предложений, однозначно выражающих свою зависимость от главной части сложноподчиненного предложения.
Дальнейшая разработка проблем генезиса и функционирования ИС может пойти по пути установления семантико-функциональных различий между исследованными конструкциями и сложными предложениями, а также синтаксическими построениями с ДС, одноподлежащными оборотами с именным действительным причастием.
Список литературы Nominativus absolutus в истории русского языка
- Богданов П. Д., 1977. Обособленные члены предложения в современном русском языке. Орджоникидзе: Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та. 226 с.
- Борковский В. И., 1949. Синтаксис древнерусских грамот. Львов: Изд-во Львов. гос. ун-та. 391 с.
- Будде Е. Ф., 1917. Вопросы методологии русского языкознания. Казань: Кн. магазин М.А. Голубева. 169 с.
- Булаховский Л. А., 1958. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Киев: Радянська школа. 488 с.
- Буслаев Ф. И., 1959. Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз. 623 с.
- Валимова Г. В., 1945. Особые случаи употребления деепричастий // Ученые записки Ростовского-на-Дону педагогического института. Вып. 3 (13). С. 32–70.
- Георгиева В. Л., 1961. Причастное сказуемое в истории русского языка (по памятникам XII–XVII вв.) // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Т. 225. С. 153–169.
- Георгиева В. Л., 1968. История синтаксических явлений русского языка. М.: Просвещение. 167 с.
- Давыдов И., 1852. Опыт общесравнительной грамматики русского языка. СПб.: Тип. Императ. Акад. наук. 462 с.
- Кацнельсон С. Д., 1949. Историко-грамматические исследования. 1. Из истории атрибутивных отношений. М. ; Л.: АН СССР. 384 с.
- Кудрявский Д. Н., 1916. К истории русских деепричастий. Деепричастия прошедшего времени // Ученые записки Юрьевского университета. Т. 10. С. 1–79.
- Кузьмина И. Б., Немченко Е. В., 1980. К истории кратких форм действительных причастий в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас. М.: Наука. С. 151–200.
- Кунавин Б. В., 2008. Причастные самостоятельные обороты в древнерусском языке. Владикавказ: Сев.-Осет. гос. ун-т. 104 с.
- Никифоров С. Д., 1952. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины ХVI в. М.: АН СССР. 344 с.
- Потебня А. А., 1958. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М.: Учпедгиз. 536 с.
- Сахарова А. В., 2007. Синтаксис и прагматика причастного оборота в древнерусской летописи: Критерии распределения предикаций на причастные и финитные в Комиссионном списке Новгородской первой летописи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 20 с.
- Соболевский А. И., 1907. Лекции по истории русского языка. М.: Унив. тип. 306 с.
- Степанов Ю. С., 1989. Индоевропейское предложение. М.: Наука. 248 с.
- Эгипти И. А., 2002. Свободные и несвободные причастные и деепричастные конструкции в русском литературном языке второй половины XVIII в.: дис. ... канд. филол. наук. М. 192 с.
- Barnet V., 1965. Vývoj systému participiί activnίch v ruštinê. Praha: Universita Karlova. 191 s.
- Brugmann K., 1904. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg: Karl J. Trübner. 777 S.
- Corin A., 1995. The Dative Absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic // Die Welt der Slaven. Bd. 42, № 1. P. 251–284.
- Curtius G., 1870. Erleuterungen zu meiner Griechischen Schulgrammaik. Zweite Auflage. Prag: Verlag Von F. Tempsky. 224 S.
- Delbrueck B., 1897. Grundriss der fergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 4, Th. 2. Strassburg: Karl J. Trübner. 560 S.
- Dry H., 1983. The Movement of Narrative Time // Journal of Literary Semantics. Vol. 12, № 2. P. 19–53.
- Ferrand M., 1983. Le participle /gérondif/ apparemment coordonné a son verbe principal et le même tour avec subordonnée en vieux russe et ailleurs en indo-européen // Revue des études slaves. T. 55, livr. 1. P. 43–55.
- Havránek B., 1937. Genera verbi v slovanských jazycich. Praha: Kr. Česká spol. nauk. 201 s.
- Hopper P. J., 1979. Aspect and Foregrounding in Discourse // Syntax and semantics. Vol. 12. Discourse and Syntax / ed. by T. Givón. N. Y.: Academic Press. P. 213–241.
- Jagič V., 1899. Beiträge zur slavischen Syntax // Denkschriften der keiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophischhistorische Classe. Bd. 46. Wien. 88 S.
- Kuehner R., 1904. Ausfuehrliche Grammatik der griechischen Sprache. 2 T. Satzlehre. Bd. 2. Dritte Auflage in zwei Bänden. In neuer Bearbeitung besorgt von Dr. Gerth. Hannover ; Leipzig: Hahnsche buchhandlung. 714 S.
- Miklošich F., 1883. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Bd. 4. Syntax. Wien: Wilhelm Braumüller. XII, 895 S.
- Růžička R., 1963. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhaetltnis zum Griechischen. Berlin: Akademia-Verlag- Berlin. 395 S.
- Schwyzer E., 1950. Griechische Grammatik. 2 Band. Syntax und syntaktische Stilistik / Vervollständigt und herausgegeben von A. Debrunner. Muenchen: C.H. Beck. 714 S.
- Thompson S. A., 1987. “Subordination” and Narrative Event Structure // Coherence and Grounding in Discourse: Outcome of Symposium, Eugene, Oregon, June 1984. Typological Studies in Language. Vol. 11 / ed. by R. S. Tomlin. [S. L.: s. n.]. P. 435–454.
- Trávniček F.,1956. Historicka mluvnice česka 3. Skladba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 201 s.
- Večerka R., 1959. Ke genesi slovanskich konstrukci participia praes. act. a praet. act. 1 // Sbornik praci filosof. fak. Brnenske university. Ročnik 8. Rady jazykovedne, vyd. A. 7. S. 37–49.
- Vondrak W., 1928. Vergleichende slavischen Grammatik Bd. 2. Formenlehre und Syntax. Goetingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 584 S.
- Zubaty I., 1954. K vykladu nekterých prislovci, zvláste slovenskych // Studie a clánky. Svazek 2. Praha: Česká akademie věd a umění. S. 106–161.