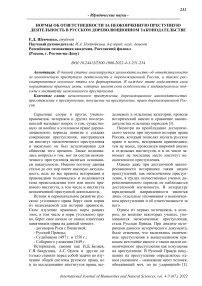Нормы об ответственности за неоконченную преступную деятельность в русском дореволюционном законодательстве
Автор: Шевченко Е.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 4-3 (67), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируется законодательство об ответственности за неоконченную преступную деятельность в дореволюционной России, а также рассматриваются основные этапы его формирования. В каждом этапе выделяются свои нормативные правовые акты, которые имеют свои особенности и индивидуальные подходы к институту неоконченного преступления.
Неоконченное преступление, дореволюционное законодательство, приготовление к преступлению, покушение на преступление, право дореволюционной России
Короткий адрес: https://sciup.org/170193381
IDR: 170193381
Текст научной статьи Нормы об ответственности за неоконченную преступную деятельность в русском дореволюционном законодательстве
Серьезные споры в кругах ученых-правоведов, историков и других исследователей вызывает вопрос о том, существовало ли вообще в уголовном праве дореволюционного периода понятие о стадиях совершения преступления, выстраивался ли институт неоконченного преступления и насколько он был детализирован для общества того времени. Также поднимались вопросы о том, мог ли состав неоконченного преступления являться основанием наказуемости. Именно поэтому данная статья до сих пор имеет высокую актуальность, ведь во все времена историками и правоведами поднималась и поднимается тема происхождения того или иного правового института, в том числе и института неоконченной преступной деятельности.
Истоки и первоначальное развитие русского уголовного права берут свои корни из недосягаемой для истории древности. Само изучение правовых норм ранних эпох, в том числе и норм уголовного право, берет свое начало от самых известных памятников права на данный момент:
-
- договоров Руси с Византией;
-
- Русской Правды;
-
- Судебников 1497 г. и 1550 г.;
-
- Соборного уложения 1649 г.
Историками, такими как И.Д. Беляев, С.В. Бахрушин, А.С. Орлов и другие не только ставили перед собой задачи по изучению общей системы русского права, но и по исследованию институтов права, вы- деляемых в отдельные категории, проводя исторический анализ и сравнение законодательства отдельных периодов [1].
Несмотря на преобладание догматического метода при изучении истории права России, который позволял изучать русское право в целом, историками правоведами, тем не менее, проводился широкий анализ и отдельных институтов, и в их числе занимает не последнее место институт неоконченного преступления.
Однако даже при достаточной заинтересованности историками таким видом преступлений, как неоконченное преступление, в трудах отечественных ученых дореволюционного периода не наблюдается достаточной изученности. В литературе юридической направленности имеются лишь отдельные упоминания о неоконченном преступлении и об ответственности за него.
Одним из первых источников, в котором, по мнению некоторых ученых, упоминаются неоконченные преступления, стала Русская Правда. При анализе историками данного исторического документа, было отмечено, что выделялись оконченные преступления в вышеуказанном правовом источнике вместе с таким видом неоконченного преступления как покушение на преступление. В Русской Правде покушение на преступление определялось одним указанием - «наказание несет человек, обнаживший меч, но не ударивший» [1].
Предполагается, что демонстрация оружия в целом могла рассчитываться как уже законченное преступление, но мнения историков в этой области расходятся. К примеру, некоторыми учеными было выдвинуто предположение, что «обнажение меча – есть угроза», т.е., исходя из положений документа, данное действие еще не было доведенным до конца преступлением; другие же считают такое деяние являлось оскорблением, что уже считалось как оконченное преступное деяние. Были и те, кто предполагал, что обнажение оружия несет собой и угрозу, и оскорбление одновременно – такой мысли придерживался Л.Е. Пресняков [2], однако достаточной аргументации подобное мнение не получило.
Исторический и правоведческий анализ Русской Правды показал, что ответственность за действия с оружием наступала при выполнении таких действий как:
-
- удар рукояткой меча или удар мечом, спрятанным в ножнах;
-
- отсечение или повреждение руки;
-
- отсечение или повреждение ноги;
-
- отсечение или повреждение пальцев;
-
- повреждение бороды и усов;
-
- вынимание меча из ножен, если при этом не было нанесено удара или повреждений.
Действия, перечисленные выше, считались преступными и влекли за собой наказуемость. Так, были предусмотрены санкции, которые в большей степени являлись штрафами, которые обычно составляли от 1 до 40 гривен. Самой нестрогой санкцией являлась та, которая назначалась за вынимание меча из ножен – в данной ситуации деяние не воспринималось как покушение на здоровье или жизнь человека. Тем не менее, вынимание меча из ножен считалось угрозой, т.е. подобное деяние несло в себе признаки именно покушения на преступление. Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что в Русской Правде представления о различных стадиях совершения преступления были крайне расплывчатыми, ведь даже, на первый взгляд, действие, схожее с приготовлением или покушением определялось в качестве так называемой «обиды» – оконченного преступного деяния, за которое полагались весомые санкции, в том числе и кровная месть.
Обращаясь к Судебнику 1497 г., мы отметили, что данный законодательный акт не нес в себе четкого определения уголовной ответственности за неоконченную преступную деятельность, и все же ученые отметили для себя наличие 2-х деяний, которые могли считаться покушением на преступление. Такими действиями были:
-
- покушение на государственную власть;
-
- покушение на правовой порядок в обществе.
И все же данные статьи не могут претендовать на полноценные упоминания о неоконченной преступности, поскольку в них указывались лишь лица, которые считались особо опасными для государства. Каких-либо санкций или же описания самого преступления не давалось. Существует мнение, что подобные заблуждения могут быть вызваны ошибочной трактовкой толкования Судебника – предполагается, что под «покушением» имеется в виду «посягательство» [3].
Судебник 1550 г. не внес каких-либо значимых изменений в отношении развития института неоконченного преступления, и, как было подмечено В.П. Портновым, Судебник 1550 г. «по содержанию представляет собой новую редакцию Судебника 1497 г.» [4]. В превалирующей части каждое «воровское дело» во времена феодальной Руси считалось как оконченное преступление и жестоко каралось актуальными на тот момент наказаниями. Несмотря на то, что некоторые составы напоминали хотя бы отдаленно неоконченные преступления, квалификация их как покушения или приготовле6ния представляется неуместной в связи с репрессивными реалиями феодального права.
Уже современными исследователями было установлено, что следующий известный законодательный акт – Соборное Уложение 1649 г. – содержит указание на приготовление к такому виду преступления как фальшивомонетчество, а уже Указ 1661 г. устанавливал разного рода стадии совершения данного преступления. Положениями Указа 1661 г. сурово каралось даже обнаружение умысла на изготовление фальшивых денег, т.е. за невоплощенное в деяние намерение. Также отдельными правоведами устанавливалось такое деяние в данном указе как «покушение на жизнь, честь и здоровье госпожи». Предусматривались также ответственность за «покушение на здоровье и жизнь Государя» [4].
Уложение 1845 г., в отличие от предшествующих ему нормативных актов, закрепляло деление на стадии совершения преступления. Так, Уложением было выделены следующие этапы совершения преступного деяния:
-
- обнаружение умысла;
-
- приготовление к преступлению;
-
- покушение на преступление;
-
- совершенное преступление.
Наказуемость умысла имела место быть лишь в том случае, если он был направлен на совершение тяжких преступлений (в данном случае подразумевается совершение тяжких преступлений, направленных непосредственно на государственный строй). Определялся умысел следующим образом: если было установлено, что лицо письменно или устно изъявило желание или высказывало намерение совершить преступление, то это уже принималось как умысел. В число подобных действий включались угрозы, предложения совершить преступное деяние. Уложение 1845 г. явилось последним законодательным актом, которое бы устанавливало уголовную ответственность за подобные действия – насколько известно, ни в одном последующем нормативном акте высказывание или предположение о преступлении не являлось отдельной стадией.
Под покушением на преступление в Уложении понимались действия, которыми начиналось или продолжалось приведение преступного намерения в реальность. Существовала градация покушения в Уложении 1845 г.:
-
- покушение по большей близости к совершению преступления:
-
- покушение по меньшей близости к совершению преступления.
Уложение 1845 г. предусматривало наличие такого института как доброволь- ный отказ от совершения преступления. Несмотря на отсутствие точного определения данной стадии, норма Уложения определяла добровольный отказ следующим образом: «когда учинивший приготовление к преступлению или уже покусившийся на оное остановился и далее не совершал по собственной воле задуманного, то он подвергался наказанию лишь тогда, когда содеянное при приготовлении и покушении есть само по себе преступление» [4]. Если трактовать данный термин более современно, то можно сказать, что под добровольным отказом понимались действия, от совершения которых виновный по собственному волеизъявлению отказался, и если при этом уже совершенные им действия не рассчитывались как доведенное до конца преступление.
Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что анализ дореволюционного законодательства показал следующий результат: институт неоконченного преступления прошел очень длинный и трудный путь прежде, чем достиг своего «совершенства», которое было достигнуто и достаточно сформировано лишь к середине XIX века. До этого периода законодательство представлялось более жестоким и не делило преступные деяния на не-доведенные до конца и оконченные в силу суровых устоев феодального строя. С самого начала образования государства, законодательство либо не выделяло стадий вообще и в целом не вводило такого понятия, либо же признавало замысел о совершении преступления в качестве отдельной стадии, предусматривая за него определенные наказания, не уступавшие по строгости наказаниям, предназначавшимся за оконченную преступную деятельность.
Однако без опыта дореволюционного русского законодательства в области стадий преступления, а именно без таких нормативных актов как Русская Правда, Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное уложение 1649 г. не сложилось бы точного и наиболее проработанного современного законодательства, которое складывалось из ошибок прошлых времен и предыдущих вех в развитии законодательства в сфере уголовного права.
Список литературы Нормы об ответственности за неоконченную преступную деятельность в русском дореволюционном законодательстве
- Чельцов М.А. Спорные вопросы учения о преступлении / Социалистическая законность. - 1947. - №4.
- Борисов Э.Т. О терминологии, традициях и содержании проекта Уголовного кодекса / Проблемы уголовной ответственности и ее дифференциации / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - Ярославль, 2004. - С. 12.
- Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность: понятие и проблемы квалификации. - М.: Юриспруденция, 2019. - 73 с.
- Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. - М.: Зерцало, 2000. - 592 с.
- Килимбаев Р.В. Основание и пределы ответственности за неоконченное преступление. - М.: Юрлитинформ, 2020. - 155 с.