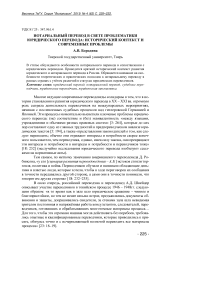Нотариальный перевод в свете проблематики юридического перевода: исторический контекст и современные проблемы
Автор: Бородина Анна Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются особенности нотариального перевода в сопоставлении с юридическим переводом. Приводится краткий исторический контекст развития юридического и нотариального перевода в России. Обращается внимание на особенности теоретических и практических подходов к нотариальному переводу в разных странах с учётом различий в статусах юридических переводчиков.
Юридический перевод, нотариальный перевод, судебные переводчики, юридические переводчики, юридическая лингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/146281531
IDR: 146281531 | УДК: 81`25
Текст научной статьи Нотариальный перевод в свете проблематики юридического перевода: исторический контекст и современные проблемы
Многие ведущие современные переводоведы солидарны в том, что в истории становления и развития юридического перевода в ХХ – ХХI вв. огромную роль сыграла деятельность переводчиков на международных мероприятиях, начиная с послевоенных судебных процессов над гитлеровской Германией и Японией. Эти процессы моментально высветили ключевые проблемы юридического перевода: (не) соответствие и (без) эквивалентность «между языками, учреждениями и обычаями разных правовых систем» [3: 264], которые до сих пор составляют одну из главных трудностей в предпереводческом анализе юридических текстов [5: 194], а также «представления законодателей о том, как следует переводить; обычно они отражают интересы и потребности скорее конечного пользователя, чем переводчика, однако, имея силу закона, они превращают эти интересы и потребности в интересы и потребности и переводчиков тоже» [18: 252] (неслучайно исследования юридического перевода изобилуют ссылками на нормативные акты).
Тем самым, по меткому замечанию американского переводоведа Д. Робинсона, «у его [ сценария развития переводоведения – А.Б. ] истоков стояли торговля, политика и война. Переводчиков обучали и нанимали обладающие деньгами и властью люди, которые хотели, чтобы в ходе переговоров их сообщения в точности передавались другой стороне, а сами они в точности понимали, что говорит им другая сторона» [18: 232–233].
В свою очередь, российский переводчик и переводовед А.Д. Швейцер описывает участие переводчиков в токийском процессе 1946 – 1948гг. следующим образом: «в то время как в зале шло юридическое сражение – чинное и благопристойное, но тем не менее весьма острое, предъявлялись документы обвинения и защиты, допрашивались свидетели, за стенами зала шла невидимая зрителям постоянная и напряжённая работа консультантов, следователей, переводчиков, готовивших и обрабатывавших многотомные материалы процесса… Для того, чтобы эта огромная машина могла действовать без перебоев, требовались опытные и квалифицированные переводчики, которые приводились к присяге, обязуясь точно и с исчерпывающей полнотой переводить все материалы процесса» [23: 18–19].
Отголоски этой ситуации в российском переводоведении сохранились и по сей день. Так, судебный перевод по-прежнему признаётся важнейшей составляющей юридического перевода, а судебный дискурс продолжает оставаться безусловным фаворитом в среди объектов научного исследования: преимущественно на его примере многие исследователи-лингвисты склонны изучать особенности юридического дискурса per se [14; 15; 19]. Более того, А.С. Александров полагает целесообразным ставить судебный, а не юридический дискурс в центр изучения лингво-правовой проблематики в целом, поскольку этот вид дискурса мыслится им как «единственно возможный модус бытия права=тек-ста», заслуживающего, по образному выражению Ю.С. Степанова, особого «ответвления от центрального ствола лингвистики» [21: 5], а именно – судебной лингвистики (расширенная трактовка forensic linguistics ) [1: 6]). Вследствие этого не удивительно, что теоретики и практики юридического перевода в настоящее время делают основной акцент на дальнейшем развитии судебного перевода / переводоведения (в том числе в рамках юридической лингвистики) и создании института судебных переводчиков в Российской Федерации (в стадии проекта) [27]. Ещё одной причиной подобного ракурса развития юридического перевода, думается, служит безусловная востребованность судебных / присяжных переводчиков в других странах, в связи с чем существенно возрастает статус и расширяется спектр переводческой деятельности в различных видах правовой коммуникации, а переводчики всё чаще становятся полноправными «агентами юридического дискурса» [11: 131], пожиная как сладкие, так и горькие плоды своей популярности: «иностранцы, вызванные в суд в качестве свидетелей, иногда не понимают, что судебный переводчик лишь передаёт им вопросы участников заседания, и говорят ему: “Что за глупости вы спрашиваете?” С точки зрения таких свидетелей, именно переводчик совершает соответствующее действие – в данном случае “спрашивает глупости”» [18: 165].
С нотариальным переводом всё обстоит несколько сложнее. В целом гражданский документооборот в СССР не предполагал ни активного участия переводчиков, ни ключевой роли нотариусов: российские историки нотариата подчёркивают, что «в тот период, несмотря на большую работу нотариусов по оказанию правовой помощи населению, роль нотариата в экономической жизни страны была в целом незначительна. При отсутствии института частной собственности нотариат выступал в качестве придатка к правовой системе государства. В большинстве случаев его роль сводилась к удостоверению небольшого количества сделок и оформлению документов о наследстве» [22: 41].
Такое положение дел во многом было вызвано спецификой социалистической правовой системы [10: 112–206], что отмечалось и социалистически настроенными учёными-правоведами, и их коллегами из «капиталистического» лагеря: так, в своём сравнительном исследовании англосаксонской (common law) и континентальной (civil law) правовых систем 1969 г. Дж. Мерримэн подчёркивает, что социалистическое право держалось особняком, с известной долей предубеждения и настороженности по отношению к другим правовым системам преимущественно по причинам идеологического порядка: «the socialist attitude is that all law is an instrument of economic and social policy and that the common law and civil law traditions basically reflect a capitalistic, bourgeois, imperialist, exploitative society, economy and government… socialists see our legal system - 226 - as socially and economically unjust… our legal systems are seen as devices by which bourgeois ideas are concealed in ostensibly neutral legal forms, which are then used to exploit the proletariat» [24: 4].
С развалом СССР правовая ситуация в Российской Федерации коренным образом меняется: так, ст. 8.1 Конституции РФ законодательно закрепила, признала и обеспечила защиту частной собственности наряду с государственной, муниципальной и иными формами собственности, гарантируя «единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности» (ст. 8.1 Конституции РФ). Наряду с государственным нотариатом, существовавшим в СССР с 1922 г., в связи с вступлением в силу Основ законодательства Российской Федерации о нотариате с 11 марта 1993 г. в России вводится институт частного – «свободного» – нотариата в целях «обеспечения охраны формирующейся частной собственности как одного из основных конституционных прав граждан и организаций», будучи «закономерным следствием движения российского общества к рыночным отношениям в экономике государства» [8: 24] и превращая нотариат из «неприметной и приниженной, какой эта специальность была в советском государстве, в общественно значимую и престижную юридическую профессию» [22: 8].
Кроме того, начиная с 1990-х гг. российские предприниматели и государственные организации постепенно расширяют свою внешнеэкономическую деятельность. На российском рынке растет присутствие иностранных компаний. Ставшая более интенсивной межкультурная коммуникация обусловила необходимость развития и юридического перевода, где русский язык все чаще выступает в качестве не только ПЯ, но и ИЯ. Применительно к языковой паре «английский – русский» Т.П. Некрасова объясняет данную тенденцию следующим образом: «потребность в переводе на английский язык российских законов и иных нормативно-правовых актов, юридических заключений, отчётов о проведении комплексных предынвестиционных проверок и целого ряда других документов, в которых используется юридическая терминология, обусловлена интересом иностранных инвесторов к нашей стране как к привлекательной “инвестиционной площадке”» [12: 4]. С этого времени также растёт количество контактов между частными лицами и организациями из России и других стран, в силу чего увеличивается потребность в переводе личных документов на соответствующие языки [6: 51].
Совокупность вышеуказанных причин способствует стремительному развитию спроса на услуги в области нотариального перевода, однако «нотариальный перевод» – скорее концепт, нежели устоявшийся (юридический) термин: так, в Проекте положения о судебном переводчике он вовсе не упоминается, а профессиональный узус российских переводчиков чаще содержит такие комплексные дефиниции «нотариального перевода», как «профессиональный перевод документов с нотариальным заверением» [25] и «нотариально заверенный перевод». Последний определяется как «вид перевода, который подразумевает процедуру оформления документов официального характера с дальнейшим заверением подписи переводчика уполномоченным на это лицом, то есть, нотариусом» [26], что урегулировано законодательством: в соответствии со ст. 3 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, «если предоставленный нотариусу документ составлен на языке, которым нотариус не владеет, но- тариусу должен быть представлен перевод документа на русский язык, выполненный переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом, или перевод указанного документа, выполненный нотариусом, знающим иностранный язык, с которого осуществляется перевод» [17]. Согласно ст. 10 действующих Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, «если обратившееся за совершением нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведётся нотариальное делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему нотариусом или переводчиком» [13]. Тем самым нотариус вправе совмещать две роли - нотариуса и переводчика. Вследствие этого в российском контексте нотариальный перевод можно рассматривать как перевод, выполненный самим нотариусом в целях совершения соответствующего нотариального действия, либо нотариально удостоверенный перевод, выполненный профессиональным переводчиком (как правило, зарегистрированным в базе нотариуса). Это также подтверждает ст. 81 Основ: «нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус» [13].
Изучение российской нормативной базы по нотариальному переводу позволяет предположить, что официальным юридическим термином для нотариального перевода (термином, закреплённым нормами действующего законодательства и тем самым введённым в юридический дискурс) в настоящий момент является собственно «перевод». В то же время ст. 80.2 Проекта федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности» уточняет данное понятие в соответствии с наиболее частотными профессиональными дефинициями: «текст сообщения составлен на русском языке или составлен на иностранном языке при условии, что текст сообщения сопровождается нотариально удостоверенным переводом» [16: 111].
Таким образом, вплоть до недавнего времени нотариальный перевод не выделялся в качестве отдельного подвида юридического перевода, профессиональные переводчики в РФ рассматривали его как тот же юридический перевод, поскольку его объектом оставались юридические тексты (документы) при соблюдении дополнительных прагматических конвенций (свидетельствования подлинности подписи переводчика либо верности перевода нотариусом). Характерно, что свидетельствование нотариусом подлинности подписи переводчика имеет место преимущественно в России и странах СНГ (23.06.2014 г. Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве четырёх нотариальных палат стран - участниц Евразийского экономического союза [4: 12]). Во многих других странах дополнительного нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика не требуется в силу особенностей статуса юридических и/ли судебных (присяжных) переводчиков как агентов юридического дискурса в этих странах, и удостоверительную надпись на переведённый текст вместе с оттиском личной печати ставят уже не нотариусы, а сами переводчики. В данной связи заслуживает внимания инициатива Санкт-Петербургского регионального отделения Союза переводчиков России (СПР), ещё в 2012 г. предложившего Нотариальной палате Санкт-Петербурга признать личную печать членов СПР как дополнительное свидетельство профессиональной квалификации переводчика и, по возможности, использовать эту печать при нотариальном заверении перевода документов в целях гарантии качества перевода и аутентичности текстов ИЯ и ПЯ: «Таким образом, две стоящие рядом печати – нотариуса и переводчика – создают новое качество разноязычных текстов, подтверждая одновременно их юридическую значимость и аутентичность» [28]. Тем самым воспроизводится основная тенденция развития нотариального перевода в России, когда этим видом перевода занимаются не сертифицированные присяжные / судебные переводчики, как, например, в Австрии, Германии, Швеции и др., а высококвалифицированные переводчики «общего профиля», либо сами нотариусы.
Несмотря на широкую распространённость и востребованность нотариального перевода на сегодняшний день, специальные исследования по данной переводческой проблематике только начинают появляться (ещё одной причиной предположительно является требование конфиденциальности и тайны нотариальных действий, накладывающее значительные ограничения на использование нотариально заверенных переводов как потенциальной эмпирической базы переводческого исследования). Среди «первых ласточек» следует выделить учебное пособие «Нотариальный перевод личных документов» И.С Вацковской, в котором впервые предпринимается попытка «систематизировать знания в области перевода личных документов с опорой на авторитетные источники, мнения авторитетных коллег, юристов и нотариусов» [7: 3]. Вацковская трактует нотариальный перевод как «перевод документа и его заверение у нотариуса. Таким образом, нотариус свидетельствует, что документ переведён профессиональным переводчиком и соответствует всем законодательным нормам. Нотариальное удостоверение придаёт переводу юридическую силу» [7: 6–7]. Представляется, что ключевое отличие нотариального перевода от юридического перевода per se связано не столько с его лингвистическими / функционально-стилистическими особенностями, сколько с обязательным участием нотариуса – даже при заверении подлинности перевода специальным (присяжным) переводчиком. В России и ряде других стран без нотариального заверения (подтверждения верности перевода и/ли свидетельствования подлинности подписи переводчика) соответствующий перевод может быть условно отнесён к юридическому, если был переведён юридический текст, однако такой переводной текст не будет инкорпорирован в официальный юридический дискурс, не имея юридической силы и не будучи обеспеченным принудительной силой государства. С учётом этих факторов представляется, что нотариальный перевод целесообразно рассматривать как «дискурсивно-коммуникативную модель» [9], в основе которой – коммуникативная ситуация как единица исследования перевода в рамках коммуникативно-функционального подхода [20]. В данной коммуникативной ситуации нотариус выступает в роли главного дискурсообразующего фактора, «привилегированного свидетеля – представителя публичной власти, который был призван свидетельствовать то, что произошло в его присутствии, и отразить это в письменной форме» с целью подтверждения «несомненности совершенного акта» [2: 30–31], причём эта роль может совмещаться с ролью переводчика. Сами же переводчики в этой коммуникативной ситуации выполняют как основную, так и вспомогательную функцию.
Наличие экстралингвистических и прагматических факторов в нотариальном переводе – участия нотариуса и неукоснительного соблюдения установленных правовых процедур-конвенций при заверении переводного текста с целью его легализации / интеграции в юридический дискурс требует сравнительного изучения лингво-дискурсивных особенностей как самого нотариального дискурса, так и дискурса присяжных переводчиков в соответствующих странах ИЯ и ПЯ, расставляя новые акценты в изучении юридического перевода.
URL: http://www.norma- tm.ru/notarialnyi_perevod_dokumentov_s_zavereniem_u_notariusa.html (дата обращения 09.10.2019).
NOTARY TRANSLATION IN THE LIGHT OF LEGAL TRANSLATION: HISTORICAL CONTEXT AND CONTEMPORARY CHALLENGES
Anna Borodina
Список литературы Нотариальный перевод в свете проблематики юридического перевода: исторический контекст и современные проблемы
- Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2003. 420 с.
- Батухтина Е.М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции (сравнительно-правовое исследование). М.: Статут, 2016. 173 с.
- Беллос Д. Что за рыбка в вашем ухе? Удивительные приключения перевода. Пер. с англ. Н. Шаховой. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. 416 с.
- Борисова Е.А. (ред.) Правовые основы нотариальной деятельности: зарубежный опыт. М.: Издательский Дом "Городец", 2017. 288 с.
- Бородина А.В. Лингво-дискурсивные аспекты юридического текста как объект предпереводческого анализа // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 4. С. 192-198.
- Бородина А.В. Теоретико-методологические предпосылки изучения перформативности как свойства юридических текстов // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. научн. тр. / под общ. ред. А.А. Залевской. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. С. 51-57.
- Вацковская И.С. Нотариальный перевод личных документов: учебное пособие. Казань: Изд-во "Бук", 2017. 58 с.
- Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: учебно-методическое пособие. М.: Юрайт, 2015. 464 с.
- Волкова Т.А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода: монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. 128 с.
- Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 2003. 400 с.
- Махортова Т.Ю. Переводчик в юридическом дискурсивном пространстве // Переводчик ХХI века - агент дискурса: колл. монография / науч. ред. В.А. Митягина, А.А. Гуреева. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. С. 131-152.
- Некрасова Т.П. Юридический перевод. Сборник статей. С русского юридического на английский общепонятный. М.: Р.Валент, 2012. 304 с.
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате с последними изменениями и дополнениями на 2018 г. М.: Эксмо, 2018. 96 с.
- Палашевская И.В. Судебный дискурс: функции, структура, нарративность: автореф. дисс. … докт. филол. наук. Волгоград, 2012. 40 с.
- Попова Е.В. Природа судебного дискурса // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. №6 (194). С. 24-29.
- Проекты федеральных законов "О нотариате и нотариальной деятельности" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности" // Проект закона о нотариате с пояснениями / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 19-131.
- Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, утверждённый приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 156. М.: Проспект, 2918. 32 с.
- Робинсон Д. Как стать переводчиком. Введение в теорию и практику перевода / Пер. с англ. М.: Р. Валент, 2014. 276 с.
- Рогожникова Т.П., Белобородова А.Ю. Особенности судебного дискурса начала ХХ века // Коммуникативные исследования. 2015. № 3(5). С. 190-196.
- Сдобников В.В. Перевод и коммуникативная ситуация: монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 464 с.
- Степанов Ю. С. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований // Бенвенист Э. Общая лингвистика: пер. с фр. / под общ.ред. Ю.С. Степанова. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. С. 5-16.
- Шамба Т.М., Кокин В.Н., Шамба Н.Т. Нотариат в Российской Федерации: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 304 с.
- Швейцер А.Д. Глазами переводчика. Из воспоминаний. М.: Р. Валент, 2012. 132 с.
- Merryman J.H. The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. 3d ed. Stanford University Press, 2005, 168 p.
- Инюрколлегия. Перевод документов [Электронный ресурс]. URL: http://www.injur.ru/ (дата обращения: 09.10.2019).
- Норма-ТМ. Нотариальный перевод документов с заверением [Электронный ресурс]. URL: http://www.norma-tm.ru/notarialnyi_perevod_dokumentov_s_zavereniem_u_notariusa.html (дата обращения 09.10.2019).
- Проект Положения о судебном переводчике [Электронный ресурс]. URL: http://translation-school.ru/index.php/ru/archive/2015/sworntranslator#_Toc437967295 (дата обращения 09.10.2019).
- Союз переводчиков России. Новый статус переводчика - члена СПР [Электронный ресурс]. URL: https://utr.spb.ru/Notary/new_status.html (дата обращения 09.10.2019).