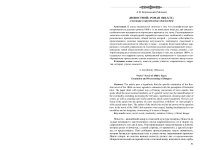"Новостной" роман 1860-х гг.: эскалация и преодоление опасностей
Автор: Корчинский Анатолий Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье выдвигается гипотеза о том, что специфическая ориентированность русского романа 1860-х гг. на новостную повестку дня связана с особенностями восприятия исторического времени в эту эпоху. Рассматриваются типичные способы литературной переработки новостных сообщений о наиболее резонансных про-исшествиях, общий вектор которой - усиление событийности происходящего, включая повышение актуальности, значимости, смысловой и ценностной наполненности собы-тий, а также - создание более масштабных нарративов о текущей современности. Клю-чевая коллизия рассматриваемой эпохи - появление новой общественной силы («ниги-листов» или «новых людей»), с которой связывалось множество опасений. На вопрос о том, как в романе 1860-х гг. создавался этот нарратив угрозы, приводивший одновре-менно к эскалации и воображаемому преодолению чувства опасности, и пытается ответить автор статьи.
Новость, новости, роман, событие, современность, нарратив, история, угроза, опасность
Короткий адрес: https://sciup.org/14914643
IDR: 14914643
Текст научной статьи "Новостной" роман 1860-х гг.: эскалация и преодоление опасностей
Новости - важнейший жанр в словесной культуре модерна. Новости не только возникают с наступлением «эпохи современности», но и творят эту современность изо дня в день. Они приковывают наше внимание к новому, которое резко отличается, с одной стороны, от прожитого, с другой стороны, от предстоящего. Они сообщают происходящему такую значимость, которая буквально принуждает нас к совместному переживанию времени. Иначе говоря, во многом именно новости делают нас со-временниками. Непритязательный на первый взгляд газетный жанр, втягивая в свою орби- ту иные культурные формы (от слухов и сплетен до политических и философских трактатов), становится чем-то поистине фундаментальным.
Актуальная повестка дня захватывает и литературу.
1860-е гг. были, вероятно, самым «новостным» периодом в истории русской литературы. Разумеется, писатели и раньше отзывались на текущие события. Перемены во власти и обществе, война или реформа могли стать темой оды, сатиры, эпиграммы, в некоторых случаях - эпического или драматического произведения. Однако характерно, что в XVIII и даже в начале XIX в. наиболее чувствительными к информационным поводам были именно те канонические жанры, в которых, по Бахтину, даже самые современные имена и события «изъемлются из современности с ее незавершенностью, нерешенностью, открытостью, возможностью переосмыслений и переоценок», «подымаются на ценностный уровень прошлого»1. К середине же XIX в., когда на сцену выходит роман как «ведущий герой драмы литературного развития нового времени»2, художественная дискурсивность (во многом благодаря усилиям литературной критики с ее жгучим интересом к текущим событиям в обществе) оказывается ориентированной на новости. Причем последние здесь можно понимать и в широком, и в узком значении, т.к. интерес литераторов направляется как на сами события, приобретающие общественный резонанс, так и на излагающие их новостные нарративы.
Во второй половине 1850-х гг. рождается особая разновидность романа, оперативно реагирующего на злободневные события и процессы, в частности, на появление новых общественных типов. Таковы первые романы Тургенева. Этот подход был быстро освоен и другими авторами, что уже в начале 1860-х привело к появлению целого спектра романных форм, значительно отличавшихся от тургеневской, но обнаруживавших едва ли не еще более пристальное внимание писателей к перипетиям русской жизни. Возникает то, что позднее назовут политическим, идеологическим или полемическим романом3. Подобные характеристики говорят о публицистическом звучании литературного произведения. Однако, являясь событийным повествованием, роман не только трактует происходящее, придерживаясь той или иной концепции («тенденции»), но, прежде всего, рассказывает о нем, раскрывая некоторые новые подробности, неизвестные ранее взаимосвязи и т.д. Писатель не просто высказывается по поводу изображаемых (фактических или вымышленных) событий, он предъявляет их так, как если бы они были реально пережиты его современниками, превращая возможное в социально релевантный опыт. Для читателя такой роман - один из источников новостей в широком смысле этого слова - известий о чем-то новом, интересном и важном. Поскольку же нарративная структура романа 1860-х гг. многими нитями связана с информационной повесткой дня, можно говорить о наличии в нем не только публицистического, но и новостного слоя.
Эффект острой актуальности многократно усиливается, если целая серия текстов оказывается посвящена одной теме. И действительно, романы 82
о «новых людях», которые без разделения на критические и апологетические можно именовать просто «нигилистическими»4, подразумевая под этим чисто тематическое единство, воспринимаются как новости с продолжением - как своеобразная хроника современности. «Нигилизм» на несколько десятилетий стал предметом, пожалуй, наиболее влиятельного нарратива угрозы в русском обществе, интерес к которому благодаря различным событиям сохранялся не только в течение 1860-х гг, но и - с известными трансформациями - еще несколько десятилетий. Ведущая роль в его становлении принадлежала литературе. Не претендуя здесь на целостную и детальную реконструкцию этого нарратива, остановимся на тех приемах, которые позволяли романистам масштабировать события (термин Ю.Л. Троицкого), первоначально представленные в новостных сообщениях печати, придавая им исключительную значимость и актуальность.
Конечно, роман не является источником новостей в узком смысле. Читатель скорее узнает их, чем узнает о них, когда внутри сюжета возникают, например, сообщения о крестьянских бунтах 1861 г. и петербургских пожарах 1862-го, как в романе Писемского «Взбаламученное море» (1863), или - о Польском восстании 1863-1864 гг, в котором участвуют герои лесковского романа «Некуда» (1864). Роман - это один из способов нарративной интерпретации уже известных событий, которая, в отличие от концептуального осмысления (его читатель с избытком находил в критике и публицистике) стремится не только к «расшифровке» и объяснению их смысла. Прежде всего, романный нарратив переоформляет новостную информацию, встраивая ее в порядок «возможного мира». Этот порядок альтернативен внехудожественной действительности уже тем, что в нем, как правило, имеется более или менее очевидная каузальная взаимосвязь между событиями, которая всегда является предметом вероятностной реконструкции в мире, рассматриваемом как реальный. Такое нарративное переоформление новостей целесообразно отличать от эстетической обработки событийного и дискурсивного материала как одну из процедур этого сложного и многогранного творческого процесса.
Как же работают с новостями романисты названной эпохи?
Во-первых, обращает на себя внимание специфическая темпоральная локализация события в сюжете романа, спроецированном на историческое время. Вообще, новость относится к прошедшему, которое еще не отделилось от настоящего. Это касается и скупых газетных сообщений, и более развернутых рассказов о «главных новостях» дня, недели, месяца и даже года. Роман - достаточно протяженное повествование. Как правило, романисты 1860-х гг, желающие рассказать историю из текущей жизни, обращаются к недавним событиям, которые не только памятны читателям, но и оказывают значимое влияние на настоящее и будущее. При этом для того, чтобы обрести вторую точку опоры, повествование первоначально как бы «отступает назад» и автор «подводит» читателя к актуальным новостям (о которых тот в действительности уже знает) из глубины недале- кого прошлого, всякий раз создавая перспективу своего рода нарративного «плюсквамперфекта». Смысл такой предыстории настоящего состоит, невидимому в том, что «сегодня» здесь выступает как выпуклая и ощутимая фигура на фоне «вчера», давая почувствовать историческую длительность текущего момента, простирающегося в прошлое и будущее. Событийность, казалось бы, уже известных событий возрастает.
Любопытный пример - упомянутый нами роман «Взбаламученное море», сюжет которого охватывает 20 лет современной истории - с 1843-го по 1863-й год. В первых трех частях рассказываемая история вполне автономна от исторического контекста: повествование сосредоточено на судьбе вымышленных героев и, если не считать присутствия в романе узнаваемого типа «людей сороковых годов», почти лишено отсылок к происходящему вне вымысла (как будто в николаевскую эпоху история действительно остановилась!). В начале четвертой части происходит резкий перелом. Во-первых, повествователь начинает то и дело конспективно излагать события отечественной истории с 1853 г. - начала Крымской войны (таким образом, роман отчетливо делится на две больших части, причем структурно-композиционное и хронологическое членение совпадают). Во-вторых, существенно возрастает роль публицистического начала (не случайно именно три последние части романа были восприняты критикой как «фельетон» или даже «пасквиль», в то время как первые три расценивались как относительно «художественные»), С этим связано и резкое увеличение авторского присутствия - вплоть до того, что в начале пятой части в романе появляется сам Писемский.
Но главное, что, приближаясь к современности, повествование становится все более «новостным» в том смысле, что нефикциональные события начинают сильнее влиять на мир героев, пока - в финале романа - не сплетаются с ним в единое целое. Например, конец царствования Николая I, начало «века прокламаций», общественная дискуссия о грядущем освобождении крестьян, сама реформа 1861 г. и даже последовавшие за ней крестьянские волнения даются еще в «фоновом режиме» (даже нашумевшее апрельское восстание в селе Бездна Казанской губернии упоминается вскользь - как новость, еще не влияющая непосредственно на жизнь героев). Здесь заканчивается «подводка» и начинаются сами «новости», которые читатель вновь «проживает» вместе с персонажами романа. Через несколько глав после упоминания крестьянских волнений идет развернутый «пример»: Александр Бакланов и Софья Ленева отправляются из Петербурга в имение Ковригино, недавно унаследованное героиней, чтобы решить вопрос с освобождением своих бывших крепостных, однако, наталкиваются на резкое сопротивление со стороны мужиков и становятся свидетелями усмирения «бунта». Это - происшествие вымышленное, но, по мнению автора, типичное для новой эпохи. Далее герои вовлекаются в подлинные исторические события. Бакланов и шурин Валерьян Сабакеев везут из Лондона прокламации Вольной русской типографии, за что Са-бакеева арестовывают на таможне. Эта история возникла на основе соб- ственного опыта Писемского, подвергшегося досмотру при пересечении российской границы после посещения им Герцена в Лондоне. Другой источник - резонансная истории ареста П.А. Ветошникова, задержанного при въезде в Россию с партией нелегальной печати 6 июля 1862 г, что впоследствии привело к многочисленным арестам революционеров, включая арест Чернышевского. Последнее крупное событие актуальной повестки дня, переживаемое героями, - Майские пожары 1862 г. в Петербурге (на момент окончания публикации романа этой новости было чуть более года). Они становятся апофеозом той опасности, которую, по мнению автора, несет с собой духовная «смута», охватившая страну. Таким образом, повествование, втягивая в себя все больше реальных событий, вплотную подходит к границе настоящего и будущего, которое, как и в новостных сообщениях, остается открытым.
Эта модель художественного времени, совершающего движение из глубины прошлого к настоящему с его новостями, получающими актуализацию в фикциональном сюжете, параллельно Писемскому используется Чернышевским (хотя в «Что делать?» собственно новостной пласт сильно завуалирован), Лесковым, Достоевским и др. Подобную траекторию можно усмотреть и в истории создания «Войны и мира», когда Толстой, развивая свой первоначальный замысел, сводившийся именно к предыстории настоящего, все дальше уходит вглубь прошлого и в итоге вместо современного создает исторический роман. Двойственность толстовского проекта, одновременно устремленного в историю и тесно связанного с современностью, отмечал Г. Лукач5. В более широком контексте это наводит на мысль о том, что романисты рассматриваемой эпохи нащупывают некий механизм перехода между «историей» как областью прошедшего, которая подлежит гипотетической реконструкции, и «историей» как тем, что свершается прямо сейчас при нашем активном или пассивном участии. Поэтому и повседневные новости должны переживаться не как обыкновенные происшествия, а как события, наиболее крупным из которых суждено стать событиями историческими.
Вторая особенность интересующих нас романов, связанная с упомянутым масштабированием новостных событий, это объединение множества разрозненных фактов в единую нарративную конструкцию, что в какой-то мере подобно объяснению через «построение сюжета» (emplotment), характерного, согласно наблюдениям Хейдена Уайта, для историописания. Новость, интересующая автора, обретает не только предысторию (о чем мы уже сказали) и предполагаемые последствия, но и, будучи помещенной в цепочку причинно-следственных отношений или же просто соседствуя с другими фактами, перестает быть точкой на временной оси, более или менее изолированной от других, как это имеет место в новостном жанре. История-story становится частью истории-history. Понятно, что, в отличие от историографии, романный нарратив обладает значительно большей свободой в заполнении «пустот» между событиями. Но одно из самых важных свойств, присущих и тому, и другому типу повествования, это способность обнаруживать не только поверхностные связи между отдельными фактами, но и рассматривать эти факты как символ или симптом, за которым «что-то стоит», раскрывая тем самым неочевидную, глубинную сущность события. Так к эффектам новизны, значимости и исторической «ощутимости» события добавляется еще один - субстанциальность.
Одна из самых продуктивных стратегий такого производства событийности - поиск скрытых опасностей и угроз, который находит наиболее яркое воплощение в сюжетных конфигурациях конспирологического типа. Мотивами криминально-политического заговорщичества изобилует, например, так называемый «антинигилистический» роман.
Подобного рода элементы есть уже в рассмотренном романе Писемского. Во-первых, считавшиеся стихийными крестьянские восстания объясняются у него пропагандистской деятельностью «нигилистов», к которым примыкают люди с ярко выраженными уголовными наклонностями (кучер Михайла). Во-вторых, в романе, хотя и в сниженном виде, изображена революционная агитация в среде купцов-старообрядцев. Оппозиционный потенциал русского раскола не раз обсуждался на страницах демократической печати. Эта тема в 1850-е гг. озвучивалась А.И. Герценом, А.П. Щаповым и др., а в начале 1860-х активно разрабатывалась В.И. Кельсиевым. В романе Писемского она соседствует со слухами о причастности купечества к петербургским пожарам 1862 г, хотя в более поздней редакции романа (1867) вместо купцов в качестве вероятных поджигателей значатся поляки6.
В более связную криминально-конспирологическую конструкцию все эти гипотезы сплетаются у Лескова в романе «Некуда», который начал публиковаться почти год спустя после «Взбаламученного моря». Здесь выстроена четкая связь между московским революционным подпольем и, с одной стороны, купцами-раскольниками, с другой же стороны, таинственными эмиссарами польского национально-освободительного движения, занятыми подготовкой Январского восстания 1863 г, подавление которого показано в романе в той же самой технике актуализации недавнего события, о которой говорилось выше. Интересно, что у Лескова в заговор вовлечена не только польская шляхта, но и иезуитские иерархи, что вносит вклад в распространенную в это время мифологию, включая рассказы о тайном влиянии иезуитов на политику в стране и, в частности, об их участии в подрывных процессах. «Иезуитский миф» и «польский след» также присутствуют в романах Лескова «Обойденные» (1865) и «На ножах» (1870-1871). В сюжете последнего, впрочем, криминальная составляющая заметно преобладает над политической. Так или иначе, конспирологические мотивы политического и уголовного преступления, касающиеся деятельности «нигилистов», в текстах Лескова соединяются в единый - вариативный, но относительно устойчивый - нарратив.
Третий прием переоформления новостей в романе - выстраивание альтернативной, контрфактической истории случившегося. Именно этот аспект работы писателей с материалом обычно наиболее уязвим для кри- тики, уличающей их в искажении правды. Но, думается, возникающие при этом сценарии возможного развития событий как раз и придают новости, попавшей на страницы романа, максимальную событийность: ведь «событие - это то, что могло произойти по-другому»7. В принципе, можно сказать, что любые реальные факты, оказавшись в мире произведения, подчиняются той логике возможного, которая господствует в нем («альтернативными» в этом смысле являются все сюжетные взаимосвязи и мотивировки происходящего). Но на этом фоне сильно выделяются случаи сознательного вторжения авторской фантазии в структуру истории, взятой из действительности. Например, если в случае рассказа о крестьянских бунтах у Писемского соблюдается строгая дистрибуция фактуальных и фикциональных сообщений, то примером совмещения и даже гибридизации этих компонентов может служить история «нечаевского дела» в «Бесах» Достоевского (1871-1872) - романе, который «венчает» собой весь корпус «нигилистической» прозы 1860-х гг. В отличие от рассмотренных выше примеров работы с новостями, когда общеизвестные реальные события было легко идентифицировать с помощью недвусмысленных указаний автора, в романе Достоевского отнюдь не очевидно, что речь идет именно о нашумевшем убийстве в парке Петровской академии. Более того, в тексте есть намеки на то, что в России, в частности, в Москве, параллельно действуют и другие «пятерки», подобные той, что была создана Петром Верховенским в вымышленном губернском городе. И хотя наличие подобных слухов всего лишь часть пропаганды, вполне можно допустить, что одна из таких гипотетических организаций и есть настоящая нечаевская «Народная расправа». Однако этого не дает сделать сам сенсационный характер рассказываемого, который мог относиться только к настоящему убийству студента Иванова: это событие уникально и именно так воспринимается читателем. При этом описываемое в романе одновременно напоминает подлинную историю, известную из газет, и сильно отличается от нее8. Тем самым достигается эффект своего рода иллюзорного удвоения события, как если бы оно, принимая другие формы в других обстоятельствах, происходило со всей неизбежностью, поскольку вытекает из того нарратива угрозы, который создается в романе.
Последнее, что нужно отметить, завершая эту краткую характеристику приемов наращивания событийности новостей в романистике, это парадоксальность того тревожного образа «новых людей», который сформировался в результате ожесточенной общественной полемики 1860-х гг. С одной стороны, обыгрывание сюжетов подобного рода в огромном количестве произведений способствовало эскалации чувства опасности. Не случайно поиск сил, «стоящих за» происходящим приводит сперва к распространению конспирологических мифов, а затем и к откровенной апокалиптике, которая становится постоянным спутником «нигилистической» прозы. С другой стороны, каждый из выстраиваемых нарративов стремится как-то гармонизировать ситуацию, предложить воображаемое преодоление угрозы. Минимально этому сно- собствует объяснение причин умственной «смуты». Далее, многие писатели, а не только автор «Бесов»9, пытаются предупредить общество о последствиях распространения «нигилизма». При этом - по крайней мере, в рамках художественного вымысла - предупреждение об опасности явно стремится стать предупреждением опасности. Злодеи, как правило, оказываются наказанными, заблуждающиеся трагически гибнут или испытывают чувство вины, либо же намечается какая-то перспектива преодоления этой общественной «болезни», например, путь исправления отрицательного героя или деятельность положительного. Но здесь вновь сказывается амбивалентность нарратива угрозы: само предупреждение усиливает чувство опасности, увеличивая ее масштаб. Кроме того, тревога растет от того, что предлагаемые сюжеты, не переступая черты настоящего времени, всегда разомкнуты в будущее (даже если структурно финал романа не является открытым). Не только скептик Писемский, но и «утопист» Чернышевский оставляет читателя в полной неизвестности относительно того, что грядет.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-78-30029).
Список литературы "Новостной" роман 1860-х гг.: эскалация и преодоление опасностей
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 461.
- Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870-х годов. М., 2003.
- Дрыжакова Е.Н. Достоевский и нигилистический роман//Достоевский: материалы и исследования. Вып. 17. СПб, 2005. С. 4.
- Лукач Г. Исторический роман. М., 2015. С. 175.
- Зубков К.Ю. Роман А.Ф. Писемского «Взбаламученное море»: восприятие современников и история текста//Озерная текстология: Труды IV летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. Пос. Поляны (Уусикирко) Лен. обл., 2007. С. 102.
- Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб., 1998. С. 115.
- Есипов В.В. Житие великого грешника: документально-лирическое повествование о судьбе русского пьяницы и замечательного историка-самоучки Ивана Гавриловича Прыжова. М., 2011. С. 22-55.
- Сараскина Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990.