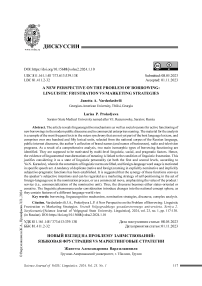Новый взгляд на проблему заимствований: языковая фрустрация vs маркетинговые стратегии
Автор: Вардзелашвили Ж.А., Прокофьева Л.П.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 1 т.26, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению лингвокогнитивных механизмов и социальных причин, обусловливающих активное функционирование новейших заимствований в современном публичном дискурсе и в номинации бизнес-объектов. Материалом для анализа послужили наиболее частотные на уровне микросинхронии лексемы, еще не вошедшие в лексический состав принимающего языка. Применение авторской комплексной методики анализа позволило определить основные типы функционирования заимствований, которые мотивированы разноуровневыми лингвоментальными, социальными и прагматическими факторами. Полученные свидетельства лингвоментальных трансформаций значения иноязычного слова связаны с языковой фрустрацией, что дает основание придать ей статус состояния языковой личности (первого и второго уровня по Ю.Н. Караулову), которое снимает сковывающие ограничители языковой нормы и мотивирует в конкретном речевом акте употребление заимствования. Установлена общая тенденция использования слов-дублеров в эксплицитно выраженной номинативной и имплицитно выраженной субъективно-прагматической функциях. Высказано предположение, что синергия этих функций передает субъективно актуальные интенции говорящего и может рассматриваться как речевая маркетинговая стратегия самопозиционирования в акте иноязычной номинации или коммерческий ход, подчеркивающий ценность объекта (коммерциализация номинативной единицы). При этом дискурс приобретает признаки или статусно-ориентированного, или воздействующего.
Заимствованное слово, лингвокогнитивный механизм, стратегии номинации, дискурс, комплексный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149145757
IDR: 149145757 | УДК: 811.161.1:81’373.613:339.138 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.1.10
Текст научной статьи Новый взгляд на проблему заимствований: языковая фрустрация vs маркетинговые стратегии
DOI:
Языковые контакты – неотъемлемая часть развития человеческой цивилизации, связанная с необходимостью общения представителей различных этнических и языковых групп в процессе социально-культурного взаимодействия. Этот объективный экстралинг-вистический фактор, коррелирующий с процессом заимствования иноязычных языковых единиц, в теоретическом языкознании признан одним из важнейших мотиваторов развития не только генетически связанных, но и неродственных языков. Интенсивность заимствований зависит от комплекса внелингвистичес-ких причин, как положительных, так и отрицательных. В научный дискурс по теме заимствований прочно вошла метафора «плавильного котла», в котором «переплавляются» разноуровневые иноязычные элементы, а затем вливаются в систему принимающего языка, подчиняясь его законам. Приведенный выше филологический трюизм свидетельствует о разработанности проблемы заимствований в теоретическом языкознании в комплексе лингвистических и экстралингвистических подходов, а интенсивность научных, обществен- ных и даже политических дискуссий по проблеме заимствований – о ее непреходящей актуальности.
В языке, как в живом и развивающемся организме, непрерывно возникают новые явления, требующие исследовательского внимания для расширения научного знания о предмете. Условия и причины, стимулирующие функционирование заимствований, активно обсуждаются в работах современных лингвистов (см., например: [Карасик, 2002; Кубрякова, 2004; Кронгауз, 2007; Бахтина, Павлова, 2014; Марченкова, Александрова, 2017; Привалова, 2021; и др.]).
В понятие «заимствованная лексика» в данной работе мы включаем наиболее частотные на уровне микросинхронии (последние 15–20 лет) слова американского варианта английского языка (далее – англоамериканиз-мы), а также французского и итальянского языков, большинство из которых, по данным новейших лексикографических источников, не входят в лексический состав принимающего языка. Следовательно, вне нашего исследовательского внимания остаются: а) иноязычная лексика, не имеющая эквивалента в языке-реципиенте, например: бай-бэк, клипмей- кер, хостинг, инсентив-тур; б) лексические единицы, номинирующие реалии более экономно и точно: дедлайн – крайний срок, к которому должна быть выполнена работа; ивент – публичное мероприятие развлекательного или рекламного характера и др.; в) названия торговых сетей, салонов красоты, ресторанов и подобных объектов, являющихся международной торговой маркой или франшизой: Colombia Sportswear, Groom, Coffee Machine, Carrefour и др.
Не вступая в дискуссию по проблеме языкового пуризма и ее частным вопросам – целесообразности употреблений иноязычных «слов-дублеров» и их влияния на язык-реципиент, фокусируем внимание на объективно существующем процессе активного (избыточного) использования англоязычных, франкоязычных и итальянских лексем (последних в меньшей степени), а также на факторах, мотивирующих этот процесс, и лингвоментальных механизмах его объективации. Вслед за И.В. Приваловой мы рассматриваем данную тенденцию как «естественную эволюцию семиотической системы, зависящую от социальных и культурно-исторических фактов» [Привалова, 2021, c. 116].
Материал и методы
В данной работе представлен лингвокогнитивный и социолингвистический анализ функционирования заимствований в современном дискурсе с целью выявления механизмов и актуальных причин, обусловливающих выбор языковой единицы в различных ситуативных контекстах публичного дискурса и номинации бизнес-объектов. Эмпирическую базу исследования составили отобранные из Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ), публичного интернет-дискурса, текстов радио- и телепередач 100 единиц, которые дублируют закрепленные в словарном составе аналоги. Они вошли в первую анализируемую группу. В «Большом толковом словаре русского языка» 2000 г. (далее – БТС) эти единицы (за редким исключением) отсутствуют, но появляются в словарях иностранных слов, включая онлай-словари современной бизнес-терми-нологии , , https://sok.marketing/ biznes-terminy, , http://economics. и др.). По данным поисковых систем все они имеют довольно высокую встречаемость. Например: тюнинг (1 229 729 запросов в месяц) = доработка; фейк (614 034) = ложь; мануал (283 413) = руководство; апгрейд (180 686) = обновление; коллаборация (102 732) = сотрудничество; сенситивность (9 500) = чувствительность и т. д. Данные Национального корпуса русского языка демонстрируют специфику употребления анализируемых слов, причем обнаруживается тенденция расширения использования в разных контекстах, в большей степени метафорических. Например, тюнинг бывает аптечный (слияние сетевых пунктов), человеческий (пластические операции, дýши в чистилище); фейк становится синонимом троллинга, употребляется по отношению к персоне (Ты фейк!).
Вторую группу составили 50 единиц – названия бизнес-объектов (Юммис): сети магазинов косметики Isi Paris (Здесь Париж), Voulez-vous (Извольте), магазин игрушек Happy day (Счастливый день), магазин солнцезащитных очков Sunny (Солнечные), салоны красоты с чрезвычайно частотным компонентом Beauty (Красота) – Beauty Science (Наука красоты), Kid’s Beauty (Детская красота), Beauty Club (Клуб красоты), кафе, рестораны и другие объекты системы питания: Le Gâteau (Пирожное / Печенье), Eco Garden (Эко сад), Dolci di Paradiso (Сладости рая) и др. Отобранный материал проанализирован в дискурсивных фрагментах словоупотреблений в лингвокогнитивном и социолингвистическом аспектах с применением авторской комплексной методики, включающей компонентный и контекстуальный анализ, идентификацию, интроспекцию, интегральный, статистический методы [Вардзелашвили, 2001; Вардзелашви-ли, Певная, 2016] и других классических лингвистических приемов и процедур.
Результаты и обсуждение
В лингвистике признано, что сущность процесса наименования связана с ментальными процедурами обобщения и категоризации отраженного фрагмента действительности и последующим преобразованием идеального содержания с помощью существующих ономасиологических категорий. Правильный выбор слова, семантически и стилистически релевантный речевому событию, – важнейший показатель нормативности речи. Необоснованное употребление иностранных слов вместо синонимичных единиц родного языка или уже освоенных заимствований признается нарушением стилистической нормы. Таким образом, корректный выбор слова – одно из фундаментальных правил культуры речи и показатель общей культуры, маркирующий уровень развития человека. Отсюда логично вытекает вопрос: почему носитель языка, зная норму, целенаправленно и сознательно нарушает ее? Сформулируем вопрос шире: что мотивирует выбор подобных номинаций-конкурентов, контрастирующих с тривиальной (нормативной) номинацией объекта, которые не только нарушают ономасиологическую таксономию, но при обращении к абстрактному адресату – преимущественно – не апеллируют к знанию, поскольку многие из этих слов понятийно не освоены социумом? Далее: 1) соответствует ли значение выбранного знака денотату или оно меняет референтные связи?; 2) на основании каких когнитивных механизмов осуществляется процесс «дублированной» номинации?; 3) какие речевые интенции вербализуются в таких словоупотреблениях? Комплексный анализ функционирования отобранных единиц позволяет последовательно ответить на поставленные вопросы.
Полагаем, что начать необходимо с уточнения понятия «значение»: «Значение – это концепт, связанный знаком. <...> Статус значения – это совокупность несодержательных признаков, определяющих место данного сло-возначения в системе языковых средств номинации. Статус значения описывает его реальный модус вивенди в языке, это характеристика десигната через его десигнатор. Статутные признаки не описывают того, что входит в содержание десигната, но описывают способ выражения концепта, функции данного способа выражения концепта сравнительно с другими, условия, мотивирующие этот способ, его распространенность (количественные признаки), формальные (несодержательные) правила и ограничения на употребление десигната в данном значении» [Никитин, 1974, c. 43]. Выделим в процитированном отрывке ключевые идентификаторы значения, на которые мы будем ориентироваться в анализе: связь значения и концепта (новый вер-бализатор концептуального значения или переход в новую концептуальную сферу), наличие несодержательных признаков (коннотация / созначения), модус вивенди и функции в языке в сравнении с другими способами выражения (смена функции, прагматика). Выявление установленных идентификаторов в контекстуальных словоупотреблениях дает возможность приблизиться к пониманию недоступных прямому наблюдению процессов, происходящих в сознании языковой личности, которая стремится реализовать естественную потребность наиболее адекватно вербализовать актуальный смысл, соответствующий речевой интенции. Акцентируя внимание на вербальном поведенческом акте, стремление человека выразить себя в речи мы рассматриваем как базовую духовную и социальную потребности личности, включая потребность в статусе, а также возможность управлять, быть хозяином своего дела (в терминологии А. Маслоу).
Языковая личность в концепции Ю.Н. Караулова, на которую мы опираемся в исследовании, – это научная абстракция, трактуемая как способность человека не только говорить (родовое свойство), но и превращать язык в речь, создавать, понимать и интерпретировать бесконечное число текстов. В структуре абстрактной языковой личности принято выделять условно нулевой, первый и второй уровни, отражающие степень культурно-языкового развития индивида и его коммуникативнодеятельностные доминанты: вербально-семантическую (отражение степени владения бытовым языком); когнитивную (отражение ее тезауруса, культуры); прагматическую (связь с мотивами, целями, движущими развитием личности) [Караулов, 2010, с. 60–61]. Тем не менее нельзя не согласиться с В.И. Карасиком, что в «реальной жизни наблюдается взаимопроникновение и взаимозависимость уровней» [Карасик, 2001, c. 173].
Мы допускаем, что использование иноязычных слов можно рассматривать как выход из ситуации «языковой фрустрации» – неудов- летворенности говорящего, вызванной объективно или субъективно понимаемыми непреодолимыми трудностями номинирования реалии, невозможностью выразить нужный смысл словами родного языка и реализовать необходимую интенцию. Таким образом, эксплицитное или имплицитное наличие ключевых идентификаторов значения иноязычных слов-дублеров в контекстуальных словоупотреблениях можно считать: а) показателем лингвоментальных трансформаций, мотивирующих в конкретном речевом акте выбор заимствованного слова; б) маркерами реакции на состояние языковой фрустрации.
Иллюстрацию рассуждений и подробный алгоритм анализа представим на примере созвучного теме номинации англоамериканизма нейминг (15 062 запросов в месяц), который в современных контекстах бизнес-дискурса замещает привычные слуху наименование / называние [Хорошева, 2018] . Сопоставим словарные дефиниции, представленные в авторитетных лексикографических источниках языка-донора (английского) и языка-реципиента (русского) и выделим макрокомпоненты значения, которые отражают его структуризацию, зафиксированную в семах.
Английское naming , по данным «The Collins English Dictionary»: «the act of giving a name to someone or something» (COED) – акт присвоения имени кому-либо или чему-либо 1. Сравним с толкованием русского наименование в БТС: «1. Словесное обозначение предмета, явления, понятия и т. п.» (БТС, c. 16), далее приводится значение: «Словесное обозначение какого-л. одного предмета, явления и т. п., выделяющее его из ряда однородных; имя собственное» с пометой «разг.», которая отражает стилистические ограничения функционирования слова в данном значении. Дефиниция лексемы называние в том же источнике отсылает к ЛСВ1 глагола назвать : «см. 1. Назвать»: «1. Дать название, имя и т. п. кому-, чему-л. // Определить, охарактеризовать каким-л. словом». Обратим внимание на знак «//», который в данном словаре отмечает смысловое варьирование в пределах одного значения.
Сопоставительный компонентный анализ дефиниций демонстрирует следующие расхождения в английском и русском вербализато- рах значения: на уровне денотативного макрокомпонента (предметно-понятийная информация о внеязыковой действительности) фиксируется, что денотат слова нейминг имеет более широкое смысловое поле, чем в русском, поскольку включает наименование / называние одушевленных и неодушевленных предметов. На уровне функционально-стилистического макрокомпонента выявлено отсутствие стилистического ограничения в английском языке, в то время как в русском действует стилистическое ограничение. Установлено, что русская лексема может развивать оценочный и, как следствие, коннотативный макрокомпонент: ‘определить, охарактеризовать каким-л. словом’, подтверждая уже на уровне большого увеличения структуры слова идею диффуз-ности значения, высказанную Д.С. Шмелевым еще в 1964 г. [Шмелев, 1964, с. 87].
Анализ дискурсивных фрагментов позволяет установить лингвоментальные трансформации анализируемого значения иноязычного слова:
-
(1) Фирм, профессионально занимающихся « неймингом »2, – а именно так называется деятельность по созданию новых имен, – у нас еще мало, и услуги их недешевы (НКРЯ).
Заимствованное слово сохраняет грамматический признак процессуальности, который представлен и в русской лексеме, но содержит компоненты значения, снимающие необходимость описания процесса, – ‘создание новых имен’, дополнительную информацию (расширение денотативно-сигнификативных связей), приобретенную в русском языке, – ‘платная услуга’. Подтверждает мысль следующий контекст:
-
(2) С другой стороны, в агентствах считают, что профессионально неймингом вообще можно заниматься только «на заказ», изучив предприятие клиента (НКРЯ).
Как и пример (1), фрагмент демонстрирует актуализацию оценочного макрокомпонента, ‘определить, охарактеризовать каким-л. словом’, потенциально заложенного в русском эквиваленте. Можно предположить, что в паре нейминг – наименование / называние смысловые расхождения основаны на следующих сдвигах в значении англоамериканизма в рус- ском языковом сознании: нейминг – дорого → престижно → гарантия успеха (характеристика, определение), что в совокупности указывает на преобладание оценочного / коннотативного начала над денотативно-сигнификативным. Следующие примеры контекстуального словоупотребления подтверждают релевантность выстроенной абстракции.
-
(3) ...Хороший нейминг : 1. Закрепляется в памяти потребителя. 2. Успешно конкурирует с другими названиями... (РегРу).
Здесь частичная синонимия денотатов ( конкурирует с... названиями ), но глагол конкурирует в синтагме расширяет предметнопонятийную информацию в направлении понятий, актуальных для сфер бизнеса.
-
(4) Как придумать крутое название или гайд по неймингу (РегРу).
В приведенном контексте наблюдается наращение коннотативного макрокомпонента, подкрепленного контекстуальным жаргонизмом крутой «преуспевающий, удачливый, респектабельный» (см. ЛСВ10 (БТС, с. 475)), а также семантикой глагола придумать «изобрести, создать то, чего не было». Через данные валентности реализуется механизм опосредованной номинации, в соответствии с которым значение переосмысляемой единицы переходит в сигнификат нового наименования, как в слове нейминг .
Каждый из примеров на уровне макро-компонентного анализа демонстрирует расширение значения в заимствованном наименовании, актуализацию мелиоративного признака в оценочном элементе и явный функционально-стилистический сдвиг: от бытийного и общеупотребительного в русском имени к прагматически ориентированному на успех в биз-нес-дискурсе.
Рассмотрим полученные данные сквозь призму лингвокогнитивных трансформаций значения иноязычного слова в сознании современного носителя языка. Изменения как реакция на языковую фрустрацию в конкретном речевом акте мотивируют выбор заимствованного слова-дублера. Анализ приведенных фрагментов с применением комплексной методики выявил опосредованную связь англо- американизма нейминг с новым сигнификатом («обновление» денотата русского наименование / называние), изменение объема семантических и коннотативных признаков, что расширяет не только эмпирический, но и функциональный и коннотативный макрокомпоненты.
Полученные данные позволяют выделить следующие лингвоментальные преобразования в актах номинации с заимствованным нейминг : 1. Идентификатор связь значения и концепта ( новый вербализатор концептуального значения или переход в новую концептуальную сферу ): переход значения из бытийной концептосферы (русский номинатор) в концепты «Бизнес», «Успех» (заимствованный номинатор) и отсутствие эксплицитной связи значения русского эквивалента с новыми концептами. 2. Идентификатор наличие несодержательных признаков ( коннотация / созначения ): нейминг в русском языковом сознании ассоциируется с престижем и успехом в бизнесе, содержит мелиоративную коннотацию и индивидуально дополнительные признаки, значимые для носителя языка в конкретном речевом акте. 3. Идентификатор модус вивенди и функции в языке в сравнении с другими способами выражения ( смена функции, прагматика ): англоамериканизм нейминг функционирует в русском языке в устном, письменном и интернет-дискурсе биз-нес-сферы, детерминируя прагматическую установку на успех.
Приведенные фрагменты позволяют проследить контекстуальные семантические связи слова нейминг с элементами русской лексической системы, что приближает к пониманию функционирования лингвокогнитивных механизмов в речи. Как следует из анализа, русское наименование / называние в сознании абстрактной языковой личности условно первого и второго уровней развития становится субъективно недостаточным для вербализации актуального смысла в соответствующих контекстах, вызывая, согласно нашей гипотезе, состояние языковой фрустрации. Лакуна родного языка заполняется заимствованием, которое в конкретном контексте субъективно удовлетворяет возникшую потребность. Такое заимствование не является окказионализмом, поскольку, как свидетельствует дискурсивная практика, активно воспроизводит- ся в речи носителей языка, тем не менее, не будучи легитимным на синхронном срезе, признается нарушением языковой нормы.
Подобные семантические процессы ярко заметны и в употреблении других анг-лоамериканизмов, прежде всего с частотным для этих заимствований глагольным формантом - инг ( -ing ), который в русском языке реализует семантику субстантивированной формы (герундий): кастинг – отбор , коучинг – тренировка , шопинг – покупка и др. Отметим, что данный ряд объединяет как единицы, частотные на узуальном уровне, так и лексику специальных тематических бизнес-сфер.
Как свидетельствует наш языковой опыт, даже в бытовых речевых актах говорящий может, не задумываясь, выбрать заимствованное шопинг, а не покупка / покупки. Чем мотивирован подобный выбор? Обратимся к компонентному анализу дефиниций. Шопинг: «посещение торговых центров, крупных магазинов (для собственного удовольствия)» (БТС); «посещение магазинов с целью покупки вещей или продуктов (обычно за границей и в больших количествах)» (МАС); «прогулка по магазинам с целью покупки какого-л. товара» (Новый словарь иностранных слов). Выделим макрокомпоненты значения: удовольствие → большое количество → прогулка, ни один из которых не присутствует в привычном покупка: «1. Действие по значению глаг.: покупать. 2. То, что куплено, купленная вещь» (Ефремова). Обратимся к дефинициям в COED: «1. When you do the shopping, you go to shops and buy things» – Когда вы делаете покупки, вы ходите по магазинам и покупаете вещи. «2. Your shopping is the things that you have bought from shops, especially food» – Ваши покупки – это вещи, которые вы купили в магазинах, особенно продукты питания. В обоих языках совпадает архисема. В языке-доноре отсутствуют актуализированные в принимающем языке компоненты значения, связанные с действием по глаголу покупать: ‘прогулка по магазинам с целью потратить деньги и получить удовольствие’. Выскажем предположение, что эти потенциальные семы (в терминологии В.Г. Гака) присутствуют в сопоставляемых словах как дополнительные признаки. На наш взгляд, перегруппировка макрокомпонентов лексемы в языке-реципиенте связана с новым культурным контекстом и сформированным на его основании этномар-кированным ассоциативным рядом. Шопинг для носителей русского языкового сознания: а) обычно за границей (см. словарную дефиницию: БТС); б) в больших количествах (см. словарную дефиницию: МАС); в) прогулка (см. словарную дефиницию: НСИС), которая приносит удовольствие, что ассоциируется с богатством, жизненным успехом, возможностью тратить деньги без страха и т. п. Таким образом, сопоставительный компонентный анализ лексемы шопинг (shopping) выявил характерные именно для русского языкового сознания семантические транспозиции, которые актуализируются в оппозиции праздничный, радостный / беззаботный шопинг’ vs будничная, рискованная / волнительная покупка, что мотивировано культурными реалиями принимающего языка. Контекстуальное словоупотребление способно актуализировать даже периферийный компонент значения, в результате чего лексема может вступать в новые синонимические отношения. Как и у единицы нейминг, в заимствованной лексеме шопинг прослеживается: а) переход в новую концептосферу – «Богатство / Успех» (идентификатор связь значения и концепта); б) наращение отсутствующей в английском языке мелиоративной коннотации (идентификатор наличие несодержательных признаков (коннотация / созначения); в) вербализация прагматической установки на успех (идентификатор модус вивенди и функции в языке в сравнении с другими способами выражения). Результаты анализа лексемы шопинг могут рассматриваться как свидетельство лингвоментальных трансформаций значения, мотивированных состоянием языковой фрустрации.
В ряду проанализированных единиц с глагольным формантом -инг (-ing) обращает на себя внимание слово кастинг, замещающее русское отбор и в современном публичном и бизнес-дискурсе приобретающее новое значение, отличное от зафиксированных словарями. «Кастинг: 2) отбор актеров в Голливуде (США) по степени их популярности; 3) показ моделей одежды» (Комлев), «предварительный отбор девушек на конкурсах красоты» (Крысин, с. 344). Общим компонентом значения для сопоставляемых единиц является уже освоенный узусом ‘отбор участников, исполнителей’.
-
(5) Кастинг – это отбор персонала по определенному признаку. Раз это отбор по определенному признаку, предполагается, что эти признаки определены, и те, кто собирается участвовать в процессе отбора, хорошо представляют, что понимается под тем или иным признаком. Рабочий документ, который содержит описание необходимых «признаков», – это профиль компетенций, в котором обозначено, какими знаниями, умениями, навыками, личностными качествами должен обладать сотрудник, работающий на этой должности» (HR-portal).
В приведенном дискурсивном фрагменте прослеживается не только расширение семантики, но и развитие новых референтных связей, которые базируются на смысловом потенциале архисемы ‘отбор’, при этом контекстуальное словоупотребление превращает заимствованное кастинг в единицу не шоу-бизнеса, а бизнеса вообще (переход в тематическую сферу «Бизнес»).
Остановимся еще на одном, на наш взгляд, интересном примере, который также верифицирует развиваемые в работе идеи. Это заимствованная лексема ментор, восходящая к греческому Μέντωρ – имени друга Одиссея и опекуна Телемаха, заменившего ему отца во время длительного путешествия. В качестве нарицательного для наставников, учителей и воспитателей оно получило распространение после появления романа Фенелона «Приключения Телемака» (1699) (см., в частности: (Фасмер)). Согласно лексикографическим источникам, в русском языке слово имеет узуальное значение: «(обычно ирон.) О ком-л., постоянно поучающем, настаивающем, навязчиво воспитывающем» (БТС); «1. Учитель, наставник, воспитатель (обычно юноши). 2. Руководитель, советчик» (МАС). При общем совпадении толкований обращает на себя внимание помета «ирон.» в первом источнике, фиксиру- ющая коннотативный макроэлемент значения в русском узусе. Как представляется, в исторической вертикали значение слова «отягощалось» ассоциациями, постепенно отдаляясь от свойственных слову в его первичном значении, которые были мотивированы особым статусом учителя, наставника, воспитателя в обществе (изначальная мелиоративная оценка). Полагаем, что вытеснение мелиоративного и постепенное развитие пейоративного макрокомпонента проходило через стадию нейтральной оценки (стертая образность, свойственная узуальным единицам). Процесс формирования пейоративного макрокомпонента может быть связан с дискредитацией авторитаризма в современной педагогике, дидактике и теории воспитания (см.: менторский тон, поучать менторски, говорить тоном ментора). Таким образом, заимствованное ментор демонстрирует лингвоментальные трансформации на уровне как диахронии, так и синхронии, подтверждая факт лингвистики: значения слов могут меняться со временем. Бытование этой лексемы в русском языке – уникальный пример жизненной силы данного знака: оно не стало архаизмом или историзмом, а отреагировало на социальные и культурные изменения внутрисистемными семантическими транспозициями. Более того, по данным анализа его современных дискурсивных реализаций, трансформация значения слова ментор все еще не завершена. Так, в документах системы непрерывного медицинского образования наставник и ментор используются как синонимы-дублеты:
-
(6) Наставник ( ментор ) – квалифицированный медицинский работник, который способствует закреплению теории и практики в условиях клинической базы (VC).
В сфере бизнеса:
-
(7) О том, что такое «ментор» в нынешние времена, можно узнать при планировании и работе над разными проектами в бизнесе... Чаще всего таким является профессионал в той области, где пользователь решил задействовать «стартап». Именно таких людей и называют менторами (SYL).
Пройдя многовековой путь, слово вернулось к истокам. Ментор – снова авторитет, уже без авторитаризма, и он вызывает уважение у того, кто начинает свой путь в профессии, не только потому, что более опытный, но и потому, что достиг успеха (часто быстрого) в конкретном деле (показательно, что в локальных менторских программах в вузах среди списков менторов почти нет людей старше 40 лет). Слово используется в разных профессиональных областях, появляются системы, в которых есть возможность выбрать ментора и самому стать им (My-mentor, Talent Up), причем главным критерием выступает успешность. На наш взгляд, это тоже проявление языковой фрустрации: носителю языка кажется, что именно ментор способен помочь добиться успеха, в том числе и финансового.
Результаты анализа материала авторской картотеки дают основание придать языковой фрустрации статус состояния языковой личности (первого и второго уровня), которое снимает сковывающие ограничители языковой нормы и мотивирует в конкретном речевом акте иноязычное словоупотребление. Данное исследование позволило выделить два основных изоморфных типа функционирования заимствований, которые мотивированы разноуровневыми лингвоментальными, социальными и прагматическими факторами: I тип – все заимствования, эксплицитно или имплицитно содержащие классификатор языковая фрустрация (42 единицы из 100 слов-дублеров, или 28 % от всего проанализированного материала); II тип – заимствованные слова, включая названия бизнес-объектов, в функционировании которых прослеживается доминанта социально-прагматического компонента (всего 108 единиц, или 72 %). Подчеркнем, что границы между выделенными типами могут быть размытыми.
Внутри II типа по функционально-семантическому признаку выделены два субкластера: 1) слова-дублеры, имеющие соответствия в русском языке (58 единиц, или 39 %): клининг / клинер – уборка / уборщик / уборщица ; кофе-брейк / ланч – перерыв на... ; кежуал – повседневный ; креатив / креативный – творчество / творческий ; лобби – нормативные вестибюль / холл ; лоукостер – низкобюджетный ; лофт – чердак / хозяйственный этаж ; месседж – сообщение ;
ньюсрум – студия новостей ; онлайн / офлайн – в сети / не в сети ; ресепшен – администрация гостиницы ; сток – склад ; спич – речь ; паркинг – стоянка и др.; многочисленные варианты названий с компонентами молл – торговый центр и лаунж – гостиная и др.; 2) названия бизнес-объектов: ресторанов, кафе, баров, клубов, салонов красоты и т. п. (50 единиц, или 33 %), в которых преобладают заимствования из французского и итальянского языков: Paradiso – Рай, L’Assiette – Тарелка супа; Fête de la – Радостная встреча; Le Joie – Радость; Mamma in Cucina – Мама на кухне; La Gustosa – Вкусно; La Padella – Кастрюля; Il Placere – Удовольствие; Il Pescatore – Рыбак; Come a Casa – Как дома; Asta la vista – До встречи; Beauty Line – Линия красоты; Royal Beauty – Королевская красота и др.
Обращает на себя внимание большое количество сложных слов с первой частью бизнес : бизнес-план , бизнес-портал , бизнес-вумен (встречается слитное написание), бизнес-стратегия , бизнес-тур и др., в которых первый компонент утрачивает отрицательное значение, зафиксированное в МАС: «Деловое предприятие, ловкая афера и т. п. как источник личного обогащения, наживы» (МАС). Вместе с тем лингвистическая память национального языкового сознания в соответствующих контекстах может актуализировать пейоративные компоненты значения:
-
(8) Благодаря нашему менталитету бизнес – это не столько стремление получать прибыль, сколько желание доминировать, быть самым крутым (Бурлан).
Семантическим трансфером будет идея, выраженная в следующем фрагменте из ин-тернет-блога:
-
(9) ...За бизнес у нас большинство принимает банальную спекуляцию «купи-продай», купить подешевле, а продать, разумеется, подороже (БВопрос).
Анализ дискурсивного функционирования заимствований обоих субкластеров II типа (всего 108 единиц, из которых 58 – это слова-дублеры, а 50 – названия бизнес-объектов) свидетельствует о том, что целесообразность их выбора преимущественно мотивирована социально-прагматическими установками языковой личности. С интралингвистических позиций этот процесс связан с менее сложными лингвоментальными механизмами, что в известной степени объясняет и диспропорцию в статистическом подсчете словоупотреблений (28 % I типа vs 72 % II типа).
Выводы
Результаты комплексного лингвистического анализа авторской картотеки из 150 единиц (100 – заимствованные слова-дублеры имеющихся в русском языке лексем, 50 – названия бизнес-объектов), подкрепленные количественными данными, позволяют предположить, что их употребление в большей части основываются на категориях ценностей языковой личности первого уровня развития. Так, слова-дублеры базируются на осознанных ключевых смыслах (ценностных доминантах) и установках социальной группы / социальных групп, где иноязычное слово может быть связано с представлением о «престиже» и восприниматься как своеобразный маркер «элитарности». Возможно, на это повлияло появление в последние годы класса успешных, активных, хорошо образованных молодых специалистов, многие из которых учились в престижных зарубежных университетах, что могло способствовать формированию в современном обществе имиджа успешного человека. Предположение соответствует тезису социолингвистики о том, что «образцом для подражания в обществе является язык социально-престижной группы» [Беликов, Крысин, 2001, c. 103]. На наш взгляд, использование в речи иноязычных слов-дублеров как сознательное нарушение нормативной номинации связано с активным развитием в обществе установки на успех, определяющей модели социального и речевого поведения. Эти единицы могут функционировать как речевая стратегия самопрезентации говорящего, субъективно призванная обозначить «элитарное» место языковой личности в иерархии социума.
Результаты анализа наименований биз-нес-объектов продемонстрировали важность связи типа речевой культуры с ценностями отдельной личности и социальных групп различных слоев общества, которые, образуя обобщенную, но неоднородную ценностную картину мира, отражаются в языке. Включенность объекта номинации в ценностную картину мира подчеркивает его важность на прагматическом уровне, что связано с семантическим законом: наиболее значимые реалии получают разнообразную и подробную номинацию. Следовательно, употребление иноязычного слова-дублера свидетельствует о возросшей значимости объекта номинации для определенных социальных групп. С точки зрения говорящего, употребление заимствования вместо имеющегося в родном языке аналога несет важную прагматически заданную дополнительную (оценочную) информацию либо о предмете речи, либо о самом высказывающемся. На когнитивном уровне это связано с заменой телеологической установки в сознании языковой личности, то есть целью речевого события становится не сама номинация, а воздействие на адресата речи в соответствии с актуализированной установкой.
Явление квазиноминации (избыточного наименования) следует отграничивать от номинаций, собранных во второй группе нашего материала, в которых дополнительная (оценочная) информация о бизнес-объекте как о предмете речи становится доминирующей, реализуя в акте номинации прагматическую функцию воздействия на адресата речи, то есть потенциального потребителя продукта / услуги, что в процессе анализа было верифицировано на большом количестве примеров. Таким образом, на микросинхроническом срезе установлена следующая тенденция: в современных речевых практиках иноязычные слова-дублеры (первый субкластер) используются в синтетической функции – номинативной, которая выражена эксплицитно, и в субъективно-прагматической, имплицитно содержащейся в соответствующих контекстах. Выскажем предположение, что синергия этих функций передает субъективно актуальные интенции говорящего и может рассматриваться как речевая маркетинговая стратегия самопозиционирования в акте иноязычной номинации или коммерческий ход, подчеркивающий ценность объекта (коммерциализация номинативной единицы). При этом дискурс теряет характеристики информирующего, но приобретает признаки или статусно- ориентированного, или воздействующего, что, в частности, легко проследить в современной стратегии названий бизнес-объектов (второй субкластер).
Лингвоментальные явления, проанализированные на примерах актуального функционирования заимствованных единиц обоих типов, вносят изменения в национальную концеп-тосферу, поскольку содержат признаки иноязычного национального сознания.
Список литературы Новый взгляд на проблему заимствований: языковая фрустрация vs маркетинговые стратегии
- Бахтина С. И., Павлова Т. Н., 2014. Лексико-семантическая адаптация заимствований в русском языке XX – нач. XXI вв. // Вестник Чувашского госуниверситета. № 1. С. 89–95.
- Беликов В. И., Крысин Л. П., 2001. Социолингвистика. М.: РГГУ. 439 с.
- Вардзелашвили Ж. А., 2001. Метафорические номинации в русском языке. Тбилиси: Изд-во ТГПУ им. С.С. Орбелиани. 234 с.
- Вардзелашвили Ж. А., Певная Н. П., 2016. Интегративный анализ динамики семантических трансформаций смыслового пространства слова // ART SANAT. Special Issue of the
- International Virtual Forum – Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space. Istanbul: TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park Açık Dergi Sistemleri Journal Park Open Journal Systems. P. 190–200.
- Карасик В. И., 2001. Аспекты языковой личности // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. Волгоград: Колледж. C. 172–182.
- Карасик В. И., 2002. Культурные доминанты в языке // Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена. С. 166–205.
- Караулов Ю. Н., 2010. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М.: ЛКИ. 264 с.
- Кронгауз М. A., 2007. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Яз. слав. культуры. 234 с.
- Кубрякова Е. С., 2004. Новые единицы номинации в проектировании картины мира как транснациональные проблемы // Языки и транснациональные проблемы. В 2 т. Т. 1. М. ; Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. С. 9–16.
- Марченкова Л. А., Александрова Т. Н., 2017. Когнитивное моделирование содержания заимствований в сознании носителей русского языка (на материале заимствований из социальных сетей) // Иностранные языки: проблемы преподавания и риски коммуникации. Саратов: Сарат. источник. C. 122–127.
- Никитин М. В., 1974. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир: Владим. пед. ин-т. 222 с.
- Привалова И. В., 2021. Изменение в семантике англоязычных заимствований в процессе их адаптации к системе русского языка // Значение как феномен актуального языкового сознания носителя языка. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т. Вып. 7. С. 116–121.
- Хорошева Е. И., 2018. Нейминг как особый вид номинации // IV Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина. Пермь: ПИ ФСИН. С. 300–303.
- Шмелев Д. Н., 1964. Очерки по семасиологии русского языка. М.: Просвещение. 244 с.