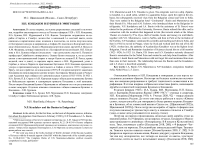Н.П. Кондаков и Бунины в эмиграции
Автор: Щавлинский Максим Станиславович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые, на основе разрозненных сведений и источников, подробно анализируется отъезд из России в феврале 1920 г. Н.П. Кондакова, И.А. Бунина, В.Н. Муромцевой и Е.Н. Яценко. Эмигранты отправились на корабле «Спарта» в Стамбул, делили быт в маленькой 3-х местной каюте, после оказались в карантинном доме, ночевали в посольстве, но потом получили визы от болгарского консула и направились в Софию. Их поселили в болгарской гостинице «Континенталь». Бунин и Муромцева встретили своих друзей П.А Нилуса и А.М. Федорова, которые знакомили их с болгарской интеллигенцией. Н.П. Кондакова и И.А. Бунина избрали (последнего - при деятельном участии Б. Пенева) в профессора Софийского университета. Однако Бунин отказался и, из-за случившихся с ним происшествий (теракт в театре Одеон на лекции П.Я. Рысса, кража медалей, книг и денег), в середине марта, вместе с В.Н. Муромцевой, уехал в Сербию, а затем в Париж по приглашению Цетлиных. Н.П. Кондаков продолжил ученую и преподавательскую деятельность в Софии, а затем в 1922 г. переехал в Прагу, где жил и работал до конца жизни (1925). В это время авторитет академика Кондакова на международном уровне возрос: Болгарская, Французская и Румынская Академии наук избрали его действительным членом (1923-1924). В 1923 г. И.А. Бунин, П.Б. Струве и А.В. Карташев всерьез обсуждали выдвижение Бунина на Нобелевскую премию и планировали привлечь Кондакова к этой кампании. После смерти Кондакова Бунин и Муромцева не забывали его и не раз упоминали в своих мемуарах. Отдельно описаны отношения с общим знакомым Буниных и Кондакова - Л.Ф. Зуровым.
И.а. бунин, в.н. муромцева, н.п. кондаков, эмиграция, стамбул, софия, нобелевская премия, л.ф. зуров
Короткий адрес: https://sciup.org/149141368
IDR: 149141368 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-144
Текст научной статьи Н.П. Кондаков и Бунины в эмиграции
Отношения Буниных и Н.П. Кондакова в эмиграции до сих пор не исследованы должным образом. Несмотря на большое количество источников, все сведения разрозненны и требуют тщательного осмысления и верификации. В статье впервые собраны все известные факты, касающиеся дружбы и совместной эмиграции Буниных и Кондакова.
В начале февраля 1920 г. И.А. Бунин, В.Н. Муромцева, Н.П. Кондаков и Екатерина Николаевна Яценко (1890-1967) - ученица и секретарь Н.П. Кондакова [Муромцева 1930, 4; Ученые 2020, 92] - твердо решили вместе покинуть Россию. До этого они вместе работали в газете «Южное слово», искали способы для эмиграции (о более ранних встречах Кондакова и Буниных, об их совместной жизни в Одессе см.: [Щавлинский 2022а; Щавлинский 2022b]). После погрузки на корабль «Спарта» 6 февраля они получили маленькую трехместную каюту и ожидали отплытия в Стамбул (здесь и далее даты указываются по новому стилю).
Погрузка на пароход продолжалась несколько дней, корабль стоял на внешнем рейде. 8 и 9 февраля, когда пароход отчалил, Кондаков и Муромцева записывают в дневниках: «8 воскресенье. В 8 пошли в К[онстантино] поль. Тихо, покачивало слабо» [Кызласова 2018, 268]; «<9 февраля> Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня» [Устами Буниных 2005, С. 282]. 9-10 февраля на пароходе сильная качка, Яценко дежурит у кровати Кондакова, так как ему нездоровится, все четверо не выходят из каюты, чувствуют себя плохо, почти не пьют и испытывают жажду» [Кызласова 2018, 268].
11 февраля пароход сбился с пути и целый день шел по минному полю, однако знающий Черное море русский моряк заменил капитана («пьяницу-албанца») и провел пароход в Босфор [Устами Буниных 2005, 283-284; Бунин 2009b, 162]. 13 февраля В.Н. Муромцева записывает: «Сегодня неделя, как мы живем в нашей крохотной квартирке вчетвером <...>. Потащили нас по Босфору В первый раз вижу Стамбул с его минаретами в снегу Тащимся в Тузлы, где грозят нас купать». Однако в этот день и в следующий пароход не пустили в Тузлы и отправили обратно в Стамбул. При входе в город все пассажиры должны были пройти «дезинфекцию» (душ) в каменном сарае, но Бунин устроил скандал французским властям и всех четверых пропустили без этой процедуры [Кызласова 2000, 46; Устами Буниных 2005, 284; Бунин 2009b, 162-163].
Всех сошедших на берег отправляли на 15-дневный карантин. Бунина, Муромцеву, Кондакова и Яценко привезли в пригород Стамбула («в так называемые Поля Мертвых»), в грязный разваливающийся дом с разбитыми окнами - бывший в прошлом убежищем прокаженных, - где стоял «собачий холод», и эмигранты были вынуждены спать на полу. На следующий день благодаря Кондакову (жена консула вспомнила о своем кратком знакомстве с академиком) они отправились в Стамбул в бывшее русское консульство, где снова были вынуждены спать на полу. 17 февраля, отчаявшись, Бунин уже был согласен ехать в Сербию [Кызласова 2000, 46; Бунин 2009b, 163]. Однако на следующий день все четверо получили болгарские визы, еще через два дня оказались в болгарском консульстве, где к ним отнеслись очень бережно, и получили рекомендательное письмо от болгарского консула с просьбой оказывать всевозможное содействие указанным лицам в пути до Софии [Кызласова 2000, 46; Морозов 2018, 74].
Следующие дни прошли в ожидании поезда (из-за разрушений во время войны поезда ходили редко). 21 февраля эмигранты посетили храм Св. Софии, а также попали в музей, который открыли специально для них. На следующий день ужинали в гостях и вновь встретились с бывшим русским консулом [Кызласова 2000, 46]. 23 февраля погрузились в прямой поезд до Софии, где и оказались утром 25 февраля, на перроне их встретил ученик Н.П. Кондакова, историк Андрей Николаевич Грабар (1896-1990). Существует ошибочное мнение, что Кондаков, а с ним и Бунины ехали в Софию через Варну. Его впервые высказал В. Лазарев: «В 1920 г. Н.П. покидает Одессу, чтобы после кратковременного пребывания в Константинополе и Варне, осесть в Софии». [Лазарев 1925, 16]. Позднее это же мнение, подразумевая тот же источник, ретранслирует Л.С. Клейн: «Кондаков с Буниными и Яценко в густой толпе эмигрантов отбыл на французском пароходе в хорошо ему знакомый Константинополь, а оттуда через Варну в Софию» [Клейн 2014, 564]. Вероятно, эта ошибка связана с неполнотой знаний В. Лазарева об эмигрантской жизни Н.П. Кондакова. Схожую неточность об эмиграции Кондакова мы можем наблюдать в воспоминаниях В.Б. Варнеке, написанных в 1926 г: «...судя по справочникам, Н.П. скоро переехал в Прагу» [Варнеке 2002, 111]. Однако стоит отметить, что планы

эмигрировать через Варну у Кондакова и Буниных действительно были: «25 <декабря 1919 г.> четверг <...> Записал нас двоих на Варну Пошел к Бунину» [Кызласова 2018, 259]; «27 <декабря 1919 г> суббота <.. .> явился Клименко - Русс[кая] культ[ура] переводится на Балканы, здесь конец, и жалов[ания] не будет. Но пароход нам будет в Варну даровой» [Кызласова 2018, 261]; «Получили визы на Варну и Константинополь» [Устами Буниных 2005, 264].
25 февраля Кондаков записывает в дневнике: «...первое впечатление от Софии отвратительное». Эмигрантов поселили среди множества «тифозных больных» в «мерзкий и страшный отель» «Континенталь» (на углу улиц Леге и Клементина). Гостиница была переделана болгарскими властями в русский дом, с русским управлением [Двинятина 2020, 7; Бунин 2009а, 180, 182; Кызласова 2000, 46; Морозов 2018, 74]. С. Чилинги-ров так характеризует атмосферу гостиницы и пребывание в ней Бунина: «...смешение возрастов, сословий, служебных и общественных положений не раз приводило к столкновениям, еще больше увеличивавшим хаос в гостинице, похожей на растревоженный улей. <.. .> В такую среду попал Бунин тотчас после приезда в Софию. В силу того пиетета к писательской личности, который был присущ русским интеллигентам, ему были отведены две комнаты, одна против другой, с очевидным желанием создать для него приемлемую, более домашнюю обстановку» [Двинятина 2020, 7; Чилингиров 1933, 4].
Почти сразу же после прибытия в Софию Кондакову и Бунину предложили профессорские места в Софийском университете: 28 февраля к Кондакову пришли коллеги из университета - Л.Г. Милетич и декан Б.С. Цонев. В дневнике Кондакова приводятся их слова: «Счастье для нашего университета, что такой ученый будет читать». Кондаков согласился, но сразу намекнул на повышение оклада, так как счел, что цены в Софии выше одесских. Уже утром следующего дня Кондаков начал работать и отправился в музей, где приступил к изучению фресок. 1 марта Кондаков посетил храм Св. Александра Невского, 2 марта побывал на обеде у болгарского историка-медиевиста Басила Николова Златарски (1866-1935), а уже 3 марта Милетич принес Кондакову первые деньги - 3000 левов [Кызласова 2000, 47].
М. Йованович, утверждает, что болгарские университеты стремились заполучить русских профессоров, так как «в незавидных условиях эмигрантской жизни русские преподаватели искали способ продолжить свою научную и педагогическую деятельность, а болгарские и югославские университеты в самом начале 1920-х годов вследствие войн, больших человеческих потерь и просто общественных потрясений сталкивались с нехваткой соответствующих академических кадров» [Йованович 2005, 330]. Проблема с кадрами усугублялась и тем, что при установленной оплате труда в 2218 левов, вследствие экономического кризиса в Болгарии 1919 1920 гг., болгарская профессура могла заработать больше, занимаясь частной практикой. Иностранные специалисты запрашивали зарплату в 15-20

тысяч левов, поэтому привлечь их тоже не получилось. «Русские ученые <.. .> были готовы трудиться за небольшую заработную плату (все русские профессора получали по 3 тысячи левов в месяц, за исключением академиков Кондакова и Рейна, жалование которых составляло 4 тысяч левов в месяц)» [Йованович 2005, 331]. На фоне общей эмигрантской нищеты это был хороший оклад. «В то время болгарские власти предлагали кафедру в Софийском университете и известному русскому писателю И.А. Бунину, но он это предложение любезно отклонил» [Йованович 2005, 331].
По случаю праздника освобождения Болгарии 5 марта Славянское общество организовало в Софийском университете славянскую культурную встречу. Из русских эмигрантов выступали академик Н.П. Кондаков, профессора В.В. Завьялов, М.Г. Попруженко, А.Д. Агура [Петкова 2003, 374].
Тем временем Бунины проводили время в компании своих друзей -А.М. Федорова и П.А. Нилуса, эмигрировавших в Болгарию ранее. Они поспешили познакомить Бунина со своими болгарскими приятелями -профессором и знатоком русской литературы Бояном Пеневым и его женой поэтессой Дорой Габе. Б. Пенев предложил Бунину провести его в члены Академического совета (как почетный академик петербургской Академии Наук Бунин имел право занять профессорскую кафедру в любом европейском университете) и, заручившись согласием Бунина, начал действовать [Петкова 2020, 35; Федоров 1933, 2].
Уже 23 марта газета «Варненское эхо» «сообщает, что русский писатель Иван Бунин будет назначен профессором русской литературы в Софийском университете» [Петкова 2003, 374]. 25 марта состоялось специальное заседание Академического совета, на котором Б. Пенев «прочитал доклад, выходящий далеко за рамки административного документа, мотивирующего подобное назначение. В нем биографические данные представлены весьма скупо, а акцент поставлен на интерпретации творчества русского писателя» [Петкова 2020, 35]. Бунин воспринял это известие с «восторгом и умилением» [Чилингиров 1933, 4], но отказался.
В.И. Косик так комментирует это событие: «.. .стоит добавить, что еще до его <Бунина> отъезда Академический совет Софийского университета по предложению профессора Бояна Пенева, знатока творчества русского писателя, дал 27 марта 1920 г. согласие на прием Ивана Бунина в качестве лектора по новой русской литературе. 1 апреля Совет министров утвердил Бунина с Никодимом Кондаковым, Завьяловым, Попруженко и Мочуль-ским в должности преподавателя. <.. .> Он <Бунин> не вернулся в Софию, как обещал так много сделавшему для него Б. Пеневу, ни в мае, ни осенью» [Косик 2008, 117]. Вероятно, Бунину, как и Кондакову, предложили начать читать лекции по русской литературе еще раньше, в начале марта, до заключения контракта. Но лекции не состоялись, так как в середине марта Бунин и Муромцева уехали в Белград.
А.М. Федоров связывал отказ Бунина от профессорского места в университете и скорый отъезд с неприятностями, которые случились с писателем в начале марта. 1 марта в 10 часов утра была назначена антибольше- вистская лекция журналиста, литератора, кадета Петра Яковлевича Рысса (1870-1948) в театре «Одеон». Бунин вечером 29 февраля, перед утренним мероприятием, сильно засиделся в гостях на приятельском ужине у известного болгарского поэта С.Д. Чилингирова, из-за чего проспал и не успел к началу лекции. Проснувшись утром, писатель получил известие, что в театре около сцены взорвалась «адская машина». Бунин и Федоров были приглашены как почетные гости и должны были сидеть в первом ряду и, вероятно, их бы задел взрыв [Бунин 2009а, 181; Морозов 2018, 74; Федоров 1933, 2]. Помимо этого, 3 марта Бунина обокрали [Бунин 2009а, 181; Федоров 1933, 2]. По дневнику Кондакова можно установить точную дату и время инцидента: «“у Бунина около 5 <часов> украли все только что полученные деньги, золотые часы, 3 золотых медали и свои <романы>”» [Кызласова 2000, 48] (подробно об обстоятельствах взрыва и кражи см.: [Бунин 2009а, 181; Федоров 1933, 2]). У Бунина оба события происходят в один день: сначала кража, а затем взрыв в театре; у Федорова наоборот: сначала взрыв, затем кража и между событиями есть временная дистанция минимум в несколько дней. Очевидно, что у Бунина имеет место либо аберрация памяти, либо художественное допущение.
После такого инцидента болгарское правительство предложило им бесплатный отдельный вагон в Сербию и деньги [Двинятина. 2020, 8; Федоров 1933, 2]. В.Н. Муромцева 19 марта записывает: «Сижу одна в вагоне в Белграде. Вид из окна наш, деревенский. Ян целые дни в городе, а я в вагоне. Вчера ходили по Белграду, кот<орый> похож на наш провинциал<ьный> город, те же булыжники, те же белые дома, та же пыль» [Двинятина 2020, 8]. В Белграде Бунин и Муромцева неожиданно получают телеграмму из Парижа от М.С. Цетлиной, к которой приложены французские визы и 1000 франков на дорогу. Через Будапешт, Вену и Цюрих 28 марта Бунины приехали в Париж и остановились у М.С. и М.О. Цетлиных [Бунин 2009а, 182; Двинятина 2020, 8]. 31 марта Кондаков записал в дневник: «Бунины уехали в Париж!» [Кызласова 2000, 48]. После отъезда Кондаков, Яценко, Муромцева и Бунин не виделись, но их общение не закончилось.
С 25 февраля 1920 г. по 21 марта 1922 г. (В.И. Косик указывает другие даты: «Его преподавание в Софийском университете ограничилось временем с первого июля 1920 по первое апреля 1922 г.» [Косик 2008, 63]). Кондаков живет и работает в Софии. В 1921 г. его избирают членом Болгарской Академии наук [Шмит 2010, 563]. С 26 марта 1922 г. по 17 февраля 1925 г. по приглашению Карлова университета он живет и работает в Праге. После смерти Н.П. Кондакова в 1925 г. его учениками в Праге был создан исследовательский центр «Seminarium Kondakovianum», ставший с 1931 г. Археологическим институтом имени Н.П. Кондакова (см. подробнее: [Басаргина 2004]). Ростовцев принимал непосредственное участие в создании Института имени Н.П. Кондакова в Праге и организации при нем Российско-американского комитета, членом которого он состоял [Бонгард-Левин 1997, 35]. По приглашению профессора Карлова университета Л. Нидерле и президента Чехословацкой Республики Т. Масарика, знакомого с Кон-

даковым с 1890-х гп, академик переехал в Прагу. В течение двух лет Кондаков читал курс истории средневекового искусства Восточной Европы и вел спецкурс по истории народного орнамента на материалах вышивки, а также организовал небольшой научный кружок, состоявший преимущественно из студентов и молодых ученых [Басаргина 2004, 767]. Среди причин переезда в Прагу можно выделить три: идеологические разногласия с правительством Болгарии [Йованович 2005, 331-332; Васильева 2000, 6], материальное положение [Винокурова 2000, 190] и конфликт с болгарской профессурой [Косик 2008, 63]. (По всей вероятности, Кондаков еще и испытывал нехватку необходимых для работы книг: «“Конечно, здесь есть библиотеки, и после Софии, где их не было, можно заниматься... - писал Никодим Павлович Жебелеву 3 февраля 1923 г”» [Тункина 2004, 650]). Известно, что в 1922-1923 гг. у Кондакова были возможности переехать в Париж и преподавать в Сорбонне, но академик отказался [Кызласова 2004, 619-620, 635; Тункина 2004, 677].
В декабре 1922 г. Бунин пишет П.Б. Струве: «...обращаюсь к Вам по делу общерусского значения. В сентябре, в августе во французских газетах была маленькая кампания о том, что надо Нобелевскую премию 1923 г. присудить представителю русской литературы - Бунину или Мережковскому» [Янгиров 1994, 37-38]. Интересно, что Бунин делает ставку на чешского политика и русофила Карела Крамаржа (1860-1937) и совсем не вспоминает о том, что Н.П. Кондаков или М.И. Ростовцев имели возможность выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию как действительные члены Академии наук [Янгиров 1994, 44]. Еще до письма Бунина к Струве, 7 декабря 1922 г. А.В. Карташев писал Струве с похожим предложением:
Дорогой Петр Бернгардович! Пишу по экстренному вопросу, требующему срочного разрешения до 31-го декабря. Возникла мысль о выдвигании на Нобелевскую премию к январю 1923 года вместо рекламируемого с большевистской стороны Горького кого-нибудь с нашей стороны из русских писателей. Прямо говоря - Бунина. По статуту премии могут выдвигать кандидатов: 1) Академия Наук, 2) Лауреаты премии и 3) профессора литературы и истории. Мы могли бы в известной мере использовать все эти возможности. По пункту 3-му, наир., П.Г. Виноградов и Н.П. Кондаков могли бы подписаться на представлении или порознь или вместе. По пункту 2-му можно было бы обратиться к Ромэну Роллану, <.. > По пункту 1-му может быть нам следовало бы иметь дерзновение выступить или от лица всего академического Союза или от Русского института в Праге. А для верности может быть нужно было бы соединить все эти три способа вместе. Пусть бы Кондаков и Виноградов представили Бунина от себя, одновременно Парижская Академическая Группа уговорила бы Р. Роллана представить Бунина от его имени. И - наша Пражская “Академия Наук” сделала бы независимое представление в Стокгольм» [Колеров 1996, 243].
Найти сведения об участии Н.П. Кондакова в Нобелевской кампании 1923 г. пока не удалось (автор статьи выражает благодарность за консуль-150

тации по этому вопросу Т.В. Марченко, П.А. Трибунскому и И.Л. Кызла-совой. О нобелевской кампании 1923 г. см подробнее: [Марченко 2007]). Неизвестно даже, писали ли ему А.В. Карташев или П.Б. Струве с предложением принять участие. Хотя как раз в это время международный и ученый авторитет академика возрос. В Пражском университете он читал курс истории искусства (1922-1924), после Болгарской академии наук сначала Французская Академия наук избрала его членом-корреспондентом (1923), а затем и Румынская Академия наук - на конгрессе византинистов в Бухаресте весной 1924 г, где Кондаков присутствовал лично - избрала его действительным членом. В Чехии Кондаков был почетным председателем II Съезда русских ученых в Праге (октябрь 1922). Восьмидесятилетие Кондакова (1924) было отпраздновано в Праге самым торжественным образом. 25 сентября В.Н. Вернадский по этому поводу произнес на III Съезде русских ученых юбилейную речь, которая вызвала ряд сочувственных откликов в заграничной ученой прессе [Шмит 2010, 563].
П.А. Бунин тоже поздравил с юбилеем академика. В своем дневнике 1 ноября 1924 г. Кондаков отмечает, что Бунин написал ему поздравительное письмо [Кызласова 2000, 48]. Более поздних сведений об общении Н.П. Кондакова с П.А. Буниным и В.Н. Муромцевой нет.
Умер Никодим Павлович Кондаков 17 февраля 1925 г. После смерти учителя Е.Н. Яценко, жившая с ним в двухкомнатной квартире в Праге, уехала во Францию.
Одним из последних общих знакомых Кондакова и Буниных являлся Леонид Федорович Зуров (1902-1971). В 1922 г. он участвовал в студенческом съезде в Праге. С 1922 г. по 1924 г. учился на архитектурном отделении Пражского политехнического института (курса не окончил), параллельно изучал античное искусство под руководством Н.П. Кондакова и посещал его семинары [Бунин 1998, 585]. В 1929 г. Зуров по приглашению Бунина переехал из Риги в Париж и стал родным человеком в семье Бунина. Наверняка Н.П. Кондаков как личность и как ученый часто становится предметом их бесед. Любопытно в этом отношении письмо В.Н. Буниной к И.А. Бунину от 22 августа 1937 г, где она пересказывает мужу содержание переписки с Л.Ф. Зуровым, промежуточные результаты его археологической экспедиции в Печерах и пишет: «Остальные члены экспедиции тоже довольны результатами. <.. .> Кондаковцы - Окуневы и Андреев тоже много сделали» [Переписка 2019, 887]. Речь идет о Николае Львовиче Окуневе (1886-1949) и Николае Ефремовиче Андреев (1908-1982) - историках и товарищах Н.П. Кондакова. Бунин, Кондаков и Окунев виделись в Одессе (см: [Щавлинский, 2022а]). Н.Е. Андреев с 1927 г. жил в Праге, где с 1928 г. был участником Seminarium Kondakovianum, с 1931 г. работал сотрудником Археологического института имени Н.П. Кондакова, с 1939 по 1945 гг. был его директором [Переписка 2019, 889].
После смерти Н.П. Кондакова Бунины периодически вспоминали академика в печати: в 1930 г. В.Н. Муромцева-Бунина написала статью к 5-летней годовщине смерти академика [Муромцева 1930]. В этой статье
она нарисовала портрет очень умного человека, при первом же знакомстве внушающего «уважение к себе, граничащее со страхом». В иные минуты, когда Кондаков бывал в хорошем расположении духа, он привлекал и располагал к себе своей улыбкой и добротой. Кондаков описан у В.Н. Муромцевой как пессимист, сурово относившийся и к России, и к русским людям. Среди особых качеств его характера отмечены: нетерпимость к подделкам (в людях и вещах), прямолинейность, вспыльчивость. В статье можно встретить множество резких и негативных суждений Кондакова о русском народе и судьбах России, об иностранцах в том числе. В.Н. Муромцева подробно описывает совместную работу Бунина и Кондакова в «Южном слове», свою дружбу с Е.Н. Яценко. Иногда В.Н. Муромцева приводит запомнившиеся реплики ее частных бесед с академиком: о России, о поездках на Ближний Восток, об общих знакомых; «с особенной нежностью всегда говорил он о своем ученике М.И. Ростовцеве». Подробно описаны обстоятельства совместной поездки на корабле «Спарта» в одной каюте, пребывание в Стамбуле, жизнь в номерах гостиницы «Континенталь» в Софии - В.Н. Муромцева «довольно часто заходила в его небольшой номерок», а Кондаков беседовал с ней «делился впечатлениями и предавался воспоминаниям» [Муромцева 1930, 4].
Иван Алексеевич дважды упомянул Кондакова в книге «Воспоминания» (1950) (в очерках «Гегель, фрак, метель» [Бунин 2009а] и «Третий Толстой» [Бунин 2009b]), в «Окаянных днях» (1935) - в этих произведениях Бунин вспоминал о совместном быте в Одессе и о совместной эмиграции. Также писатель упомянул Кондакова в вышедшей после его смерти книге «О Чехове» (1955).
Список литературы Н.П. Кондаков и Бунины в эмиграции
- Басаргина Е.Ю. Археологический институт им. Н.П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). По материалам архивов Праги // Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2004. С. 766–811.
- Бонгард-Левин Г.М. Архивы США и Европы // Скифский роман. М.: Росспэн, 1997. С. 35–42.
- Бунин И.А. "Комментарий к статье «Леонид Зуров»" / Комментарий С.Н. Морозова, Д.Д. Николаева, Е.М. Трубиловой // Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998. С. 585–586.
- (а) Бунин И.А. Гегель, фрак, метель // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 9. М.: Терра – Книжный клуб, 2009. С. 179–187.
- (b) Бунин И.А. Третий Толстой // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 9. М.: Терра – Книжный клуб, 2009. С. 145–170.
- Варнеке Б.В. Материалы для биографии Н.П. Кондакова / публ., вступ. ст. И.В. Тункиной // Диаспора: Новые материалы. Вып. 4. Париж; СПб.: Athenaeum – Феникс, 2002. С. 72–152.
- Васильева М.А. Путь интуиции // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 5–30.
- Винокурова Н.А. Н.П. Кондаков: жизнь и судьба российского ученого: дис. … к. истор. н.: 07.00.02. М., 2000. 239 с.
- Двинятина Т.М. Иван Бунин: Биографический пунктир: в 2 т. Т. 2. СПб.: Вита Нова, 2020. 496 с.
- Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940. М.: Русский путь, 2005. 487 с.
- Клейн Л.С. История российской археологии: учения, школы и личности: в 2 т. Т. 1. СПб.: Евразия, 2014. 701 с.
- Колеров М.А. Русские писатели и «Русская мысль» (1921–1923). Новые материалы // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 19. М.; СПб.: Athenaeum – Феникс, 1996. С. 234–253.
- Косик В.И. Софии русский уголок. М.: Пробел-2000, 2008. 234 с.
- Кызласова И.Л. Академик Никодим Павлович Кондаков. Поиски и свершения. СПб.: Алетейя, 2018. 582 с.
- Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920–1930-е годы. По материалам архивов. М.: Издательство Академии горных наук, 2000. 440 с.
- Кызласова И.Л. Письма Габриэля Милле к Н.П. Кондакову // Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2004. С. 616–640.
- Лазарев В.Н. Никодим Павлович Кондаков (1844–1925). М.: Издательство автора, 1925. 47 с.
- Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). Köln; München; Wien: Böhlau Verlag, 2007. 626 s.
- Морозов С.Н. Эмиграция Буниных: истоки, предпосылки, обстоятельства // Филоlogos. 2018. № 39(4). С. 69–75.
- Муромцева В.Н. Н.П. Кондаков. К пятилетию со дня смерти // Последние новости. 1930. 21 февраля. № 3257. С. 4.
- Переписка И.А. Бунина с В.Н. Муромцевой-Буниной 1906–1947 гг. // Литературное наследство. Т. 110. Кн. 1. И.А. Бунин. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 351–1169.
- Петкова Г. «Знаю, что о вас нужно писать сдержанно и просто»: неизвестная переписка Ивана Бунина и болгарского литературного критика Малчо Николова // Филологический класс. 2020. Т. 25. № 2. С. 33–47.
- Петкова Г. Болгария (1919–1940) // Литературоведческий журнал. 2003. № 17. С. 372–455.
- Тункина И.В. Академик Н.П. Кондаков: последние годы жизни (по материалам эпистолярного наследия) // Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2004. С. 641–765.
- Устами Буниных: дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: в 2 т. Т. 1. М.: Посев, 2005. 304 с.
- Ученые – фондообразователи Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук: краткий биографический справочник: К. СПб.: Реноме, 2020. 168 с.
- Федоров А.М. Злоключения Бунина в Болгарии // Сегодня. Рига, 1933. 24 ноября. № 325. С. 2.
- Чилингиров С. Иван Алексеевич Бунин в Болгарии // Литературенъ гласъ. София, 1933. 26 ноября. № 210. С. 4.
- Шмит Ф.И. Византиноведение на службе самодержавия: Н.П. Кондаков // Искусствознание. 2010. № 3/4. С. 556–595.
- (а) Щавлинский М.С. Н.П. Кондаков и Бунины в Одессе // Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение. Сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции (20-21 октября 2022 г., г. Орел, ОГУ имени И.С. Тургенева). Орел: Картуш, 2022. (В печати).
- (b) Щавлинский М.С. Н.П. Кондаков и Бунины: история первой встречи // Профессорский журнал. Русский язык и литература. 2022. № 2. С. 43–49.
- Янгиров Р.М. Письма Буниных Струве // De visu. 1994. № 3/4(15). С. 34–46.