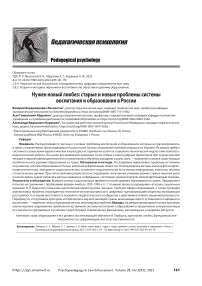Нужен новый ликбез: старые и новые проблемы системы воспитания и образования в России
Автор: Лихолетов Валерий Владимирович, Абдуллин Асат Гиниатович, Караваев Александр Федорович
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Педагогическая психология
Статья в выпуске: 2 (93), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Рассматриваются «вечные» и новые проблемы воспитания и образования, которые актуализировались в связи с изменениями, происходящими в России после начала специальной военной операции на Украине. Их анализ требует системного осмысления идеологических и культурно-исторических аспектов социально-политической надсистемы психолого-педагогической работы. Он нужен для выявления надежных точек опоры и поиска верных ориентиров при осуществлении текущей и перспективной деятельности по воспитанию и обучению молодежи страны. Цель - выявление и анализ существующих проблем на всех уровнях образования в стране. Материалы и методы. Исследованы нормативно-правовые источники по развитию системы образования в России, аспектам цифровизации общества. Использовались методы анализа философско-политологических, экономико-социологических, психолого-педагогических источников информации, аналогии, анализа статистических данных. При сопоставлении результатов исследований, полученных учеными разных стран и научных школ в разное время, задействовались методы сравнения и обобщения, системный, диалектический, междисциплинарный подходы. Результаты и обсуждение. Выявлен спектр существующих проблем по всем уровням образования в стране. Предпринята попытка их сравнения с проблемами времен ликбеза 1920-1930-х гг. С позиций закона возрождения «угасших социальных идеалов» В. П. Бранского осмыслен циклический характер ряда «вечных» проблем сферы образования, а также проведен анализ новых проблем, порожденных технологическим прогрессом и цифровой трансформацией общества, вызывающих растерянность и порой неготовность психолого-педагогического сообщества к действиям в новой смешанной реальности. Подчеркнуто, что огромное культурно-историческое и научное наследие страны, включающее идеи К. Д. Ушинского о народности воспитания, - надежная точка опоры решения этих многомерных проблем. Выводы. На междисциплинарной основе выполнен анализ массива современных проблем отечественной системы воспитания и образования и предложены конкретные меры их поэтапного преодоления в условиях существующих ограниченных финансовых, материальных и кадровых ресурсов.
Образование и его уровни, воспитывающее обучение и. гербарта, идеология, ликбез, функциональная неграмотность, цифровизация, институт наставничества
Короткий адрес: https://sciup.org/149142864
IDR: 149142864 | УДК: 37 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-293-161-176
Текст обзорной статьи Нужен новый ликбез: старые и новые проблемы системы воспитания и образования в России
Valeriy V. Likholetov 1, Doctor of Science in Pedagogy, Candidate of Technical Sciences, Professor at the chair of Economic Security; ;
Asat G. Abdullin 1, Doctor of Science in Psychology, Professor, senior researcher at the chair of Psychology of Management and Service; ;
Аlexander F. Karavaev 2, Honoured Worker of the Higher School of the Russian Federation, Candidate of Science in Pedagogy, Associate-Professor; ;
Актуальность, значимость, сущность проблемы. Сегодня в системе воспитания и образования страны наблюдается масса проблем. Многие из них имеют солидный возраст, но не уходят из жизни людей, обретая иные грани. Появляются и множатся новые проблемы, обусловленные технологической революцией. Однако и в настоящей смешанной реальности по-прежнему, как во времена В. О. Ключевского, «молодежь, что бабочки: летят на свет и попадают на огонь». Ничего практически не изменилось и с более поздних времен, когда Бернард Шоу весьма точно заметил: «Миром правят молодые — когда состарятся».
Особая роль образования и воспитания молодежи в развитии государств понималась великими мыслителями с глубокой древности. Известна яркая мысль: «После хлеба самое важное для народа — школа». Поэтому для нас и в настоящий период — эпоху цифровой трансформации отечественного образования — актуален плакат 1920-х гг., посвященный ликбезу: «Чтобы больше иметь — надо больше производить. Чтобы больше производить — надо больше знать». Правда, насчет ориентира «надо больше знать» нужны уточнения. Их давно дали древнегреческие философы в своих высказываниях: «Знание не есть ум» (Сократ); «Многие многознайки не имеют ума», «Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения» (Демокрит). Позже об этом хорошо выразился наш великий Л. Н. Толстой: «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного».
Спустя сотню лет после смерти нашего литературного гения, формулируя в 2011 г. свою концепцию четвертой промышленной революции, Клаус Шваб подчеркнул всем известную истину, что и в новой революции (с ее аналитикой Big Data и квантовыми вычислениями, интернетом вещей, трехмерной печатью, искусственным интеллектом и пр.) больше изменяются совсем не продукты, а сами люди [1].
По закону диалектики новое всегда приходит, лишь опираясь на старое и включая его (в снятом виде) как свою часть. «Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади?!» — завещал нам М. М. Жванецкий. Именно поэтому осмысление проблем современного отечественного образования в эпоху высокоскоростного интернета и смешанной реальности требует обращения к урокам истории страны — к периоду ликвидации безграмотности (ликбезу), только на новом уровне с учетом текущих политических и социальноэкономических реалий, а также новых эффектов, связанных с цифровизацией жизни общества.
Материалы и методы
Был подвергнут исследованию массив нормативных правовых источников по проблеме развития системы образования и воспитания в Российской Федерации, по разным аспектам цифровизации современного общества. При сопоставлении результатов исследований, полученных учеными различных стран и научных школ в разное время, нами применялись методы сравнительного анализа и обобщения.
В работе нами использовались системный, диалектический и междисциплинарный подходы; методы анализа отечественных и зарубежных философских, политологических, экономико-социологических источников информации; психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме, статистические данные.
Результаты и обсуждение
Термин «ликбез» — это сокращенное название государственной программы Советской России по ликвидации безграмотности, начало которой положил декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 г., подписанный председателем СНК В. Ульяновым (Лениным) и управляющим делами СНК В. Бонч-Бруевичем. По декрету, все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию). Наркомату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности. Декрет предусматривал создание школ для переростков, школ при детских домах, колониях и т. п.
Вчерашние революционеры, взявшие власть в стране, отлично понимали, что построить новое общество в неграмотной стране нельзя, ведь на начало XX в. уровень образования Российской империи был низок. Уровень грамотности по стране в 1897 г. составлял всего 21,1%, в том числе 29,3% — у мужчин и 13,1% — у женщин. В Сибири он был еще ниже — 12%, а у детей до 9 лет — 16%, в Средней Азии — даже 5 и 6% соответственно [2].
Из анализа документов, проведенного отечественными учеными, следует, что финансированию образования в Российской империи с конца XIX в. уделялось большое внимание. Во время царствования Николая II лишь в 1894–1916 гг. оно выросло почти в 10 раз [3, с. 104].
Поэтому сопоставление данных столетней давности с финансированием образования в современной России дает картину не в пользу настоящего периода. Так, в 2000–2018 гг. оно выросло с 1424,6 млрд руб. до 3326,1 млрд руб., т. е. лишь в 2,33 раза 1. Что касается неграмотности, то в России в 1913 г. на 1000 человек количество учащихся гимназического уровня достигло 4,9 подобного показателя, равного во Франции 3,6, а на 10 тыс. населения в России насчитывалось 8 студентов вузов, как в Британии.
В стране доля грамотных призывников в армию на 1913 г. и 1920 г. была соответственно 73 и 83% 2. По данным бывшего министра просвещения графа П. Н. Игнатьева, в Российской империи к 1916 г. было 56% грамотных, тогда как согласно переписи 1926 г. в СССР таковых было лишь 51% 3.
Современные уточненные сведения свидетельствуют о том, что борьба с неграмотностью закончилась лишь в 1960-е гг. По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г., в СССР проживало 208,8 млн граждан (162,5 млн старше 10 лет). Занятых трудом было 99,1 млн, но из этого числа даже начального образования не имели 23,4 млн человек (23,6% трудящихся), а совсем неграмотных было 3,5 млн человек. Однако эта информация тогда в советскую печать не попала, а 27 августа 1962 г. вышло секретное постановление Бюро ЦК КПСС и Совмина СССР, по которому ликбез следовало завершить к 1 июля 1965 г. [4].
Таким образом, в 1920-е гг. де-факто шло восстановление утраченных в ходе войн и революций позиций страны в сфере образования. Однако заслуга по превращению государства в страну высокой грамотности, безусловно, принадлежит руководству наркомата просвещения и других наркоматов СССР, а также многим видным деятелям страны в 1920– 1930-е гг. (А. В. Луначарскому, М. Н. Покровскому, Н. К. Крупской, Ф. Э. Дзержинскому, А. С. Макаренко, М. Горькому, Д. Бедному, В. В. Маяковскому, Н. Я. Марру, В. М. Бехтереву, В. Я. Брюсову, А. С. Бубнову и др.).
Результаты ликбеза потрясают: ведь согласно переписи населения 1939 г. в СССР грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приблизилась к 90%. Феномен подъема культуры народов страны признается в мире одним из главных условий великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. Для подтверждения мысли приведем цитату из книги Дж. Ф. Кеннеди: «Мы, американцы, считаем коммунизм глубоко отвратительным как систему, отрицающую личную свободу и самоуважение. Но мы можем по-прежнему уважать русский народ за его многочисленные достижения в науке и космосе, в экономическом и индустриальном развитии, в культуре, а также за его отважные подвиги» 4.
Однако не только в образованности людей следует искать причины подвигов и побед — они лежат в сфере воспитания. Известно, что профессор О. Пешель из Лейпцига написал о победе пруссаков над австрийцами в 1866 г. у чешской деревни Садове в газете «Заграница» так: «Народное образование играет решающую роль в войне, когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». Но генерал-фельдмаршал Х. К. фон Мольтке, единственный в истории генерал-фельдмаршал сразу двух империй — Пруссии и России, поправил Пешеля: «Говорят, что школьный учитель выиграл наши сражения. Одно знание, однако, не доводит еще человека до той высоты, когда он готов пожертвовать жизнью ради идеи, во имя выполнения своего долга, чести и родины; эта цель достигается его воспитанием. Не ученый выиграл наши сражения, а воспитатель». Веком позже эта мысль звучала неоднократно. На допросах пленные фашистские генералы так объясняли свой проигрыш: «Мы проиграли войну не Красной армии, а, скорее, советскому учителю, который за 10 лет подготовил удивительно грамотного, патриотичного солдата и офицера» 5. Аналогичным образом позже выразился Дж. Ф. Кеннеди о проигрыше США в космической гонке: «Космос мы проиграли русским за школьной партой».
Грамотность — понятие емкое. Дрейф трактовки грамотности можно заметить по дискуссиям ученых и международным документам. По предложению ЮНЕСКО, грамотными с 1958 г. стали считать лиц, умеющих читать с пониманием текста и способных письменно кратко изложить сведения о повседневной жизни. К середине 1960-х гг. появился термин «функциональная грамотность». Согласно рекомендациям ЮНЕСКО 1979 г. таковым считалось лицо, способное участвовать в видах деятельности, где эта грамотность нужна для эффективного функционирования (плюс она давала бы ему возможность пользоваться чтением, письмом и счетом для своего развития и развития общества).
Проблема функциональной неграмотности приобрела на Западе угрожающий масштаб в 1980-е гг. из-за усложнения жизни. Людям не хватало грамотности для понимания банковских и страховых документов, заполнения налоговых деклараций, пользования новой техникой и правильного применения лекарств. В конце ХХ в. в Канаде среди лиц в возрасте 18 лет и старше было 24% неграмотных или функциональ- но неграмотных. Среди последних 50% девять лет учились в школе, а 8% даже имели университетский диплом. Результаты анкетирования 1988 г. показали, что 25% французов совсем не читали книг в течение года, а число функционально неграмотных составляло 10% взрослого населения. По отчету Министерства образования Франции за 1989 г., лишь один из двух поступающих в колледж умел хорошо писать, а 20% учащихся не владели навыками чтения. В те годы до 60–80 млн американцев были неграмотными или полуграмотными, возник слой населения, где функциональная неграмотность передается из поколения в поколение. Функциональная неграмотность — одна из главных причин безработицы, аварий, травм на производстве и в быту. Потери от нее составили, по расчетам специалистов, около 237 млрд долларов [5, с. 99–100].
В современных официальных и научно-методических текстах можно найти многочисленные упоминания о других видах грамотности. В Международной программе оценки образовательных достижений учащихся PISA есть сочетания «грамотность чтения», «естественно-научная грамотность», «математическая грамотность», т. е. грамотность, обусловленная ориентацией в конкретных предметных областях. В документах, регламентирующих исследовательско-просветительскую деятельность современных библиотек, говорится о библиографической грамотности и др. [6].
На церемонии открытия Десятилетия грамотности ООН (2003–2012 гг.), проходившей в ее штаб-квартире в Нью-Йорке 13 февраля 2003 г., заместитель Генсекретаря ООН Л. Фрешетт подчеркнула, что данная проблема остается частью незавершенных дел XX в. и поэтому «в ХХI веке одной из историй успеха должно cтать распространение грамотности на все человечество». Гендиректор ЮНЕСКО К. Мацуура, выступая на той же церемонии, указал, что посредством грамотности угнетенные люди смогут обрести голос, бедняки — получить знания о том, как надо учиться, а слабые — о том, как стать сильными. Инициатива, делающая акцент на понятии грамотности как источнике свободы, призвана «избавить людей от невежества, ощущения своей непригодности и отверженности» и дать им возможность действовать, выбирать и принимать активное участие в жизни, отметил Мацуура. Указав, что темпы роста грамотности в мире замедлились, он подчеркнул огромные масштабы этой проблемы.
Подтверждено, что научно-технический прогресс ведет к росту сферы функциональной неграмотности, особенно старшего поколения. К моменту завершения Десятилетия ООН по распространению грамотности в 2012 г. численность населения, не владеющего элементарной грамотой, на планете достигла 793 млн человек 6. Даже в благополучных Нидерландах тогда было 1,3 млн малограмотных людей в возрасте 15–65 лет (10% населения). Сходная картина наблюдалась в Германии, где в 2011 г. насчитывалось до 7,5 млн человек в возрасте 18–64 лет, не умеющих правильно читать и писать. Почти 300 тыс. человек не знали алфавита, 2 млн могли разобрать отдельные слова или с трудом их написать, а 5,2 млн немцев могли читать лишь отдельные абзацы. Таким образом, 60,3% мужчин и 39,7% женщин ФРГ имели слабые навыки чтения и письма. Тогда же, по данным Istitutо centrale di Statistica, 6 млн итальянцев (12% населения) были неграмотными. До 66% итальянцев едва умели читать и писать, 25% детей выходили из школы, практически не умея ни читать, ни писать, что говорит о низком уровне подготовки учащихся в итальянских школах 7. О состоянии дел в рассматриваемой сфере в настоящее время свидетельствуют данные Гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, согласно которым в 2022 г. в мире насчитывалось 770 млн неграмотных людей.
Статистики по уровню грамотности в современной России практически нет. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка П. А. Астахов с сожалением сообщил, что в России в 2011 г. до 30 тыс. детей в возрасте 7–18 лет вообще не учились, 670 тыс. подростков были неграмотны или малограмотны. Из них 610 тыс. имели лишь начальное общее образование, а 37 тыс. не имели образования вообще 8. С тех пор эти дети и подростки выросли, поэтому сегодня более полумиллиона малограмотных молодых людей где-то и как-то работают. Хотя не ясно, что они делают в современном мире высоких технологий, разных гаджетов и множества инструкций. Границы статистики грамотности в нашей стране уточнил в интервью «Радио России» от 16 декабря 2013 г. О. Н. Смолин, первый зампредседателя Комитета по образованию Госдумы России. Он сообщил, что, по официальным данным, 1 млн 300 тыс. детей не посещают школу. Одна из больших проблем современной России — сокращение доступности качественного образования. Смолин отметил, что сегодня в Германии или Франции до 80–90% студентов учатся на бюджетной основе. По словам декана философского факультета МГУ В. Миронова, уже в 2014 г. две последние земли Германии отказались от платного образования 9. В США количество бюджетных мест для студентов такое же, как в России, но там имеется развитая система образовательного кредитования, какой у нас нет. Если по уровню начального школьного образования мы еще находимся в числе мировых лидеров, то дальше показатели весьма плохи (до 20% старшеклассников функционально неграмотны). На дискуссионной панели «Экономика для человека или человек для экономики: вызовы и уроки БРИК» 21 марта 2013 г. О. Н. Смолин сообщил, что, по данным Центра изучения человеческого капитала при ФИРО, в конце 1980-х гг. Россия входила в десятку лучших по человеческому потенциалу. Позже, по статистике докладов в ООН, страна уверенно теряла позиции, скатившись по этому показателю к 1992 г. на 32 место, к 1999 г. — на 55, а к 2013 г. — уже на 66 место.
К 2018 г. в число системных проблем образования страны (актуальных поныне) включались следующие: 1) хроническое недофинансирование образования; 2) статус педагогического работника; 3) статус учащегося; 4) содержание образования (фундаментальность / функциональная грамотность, «канон» / модернизация, «знаниевый» / компетент-ностный подходы); 5) образование: светское и / или религиозное; 6) управление образованием: дебюрократизация; 7) развитие сети образовательных организаций: «оптимизация» и качество образования; 8) современные технологии (электронное обучение); 9) здоровье учащихся; 10) образование лиц с ограниченными возможностями здоровья; 11) воспитание (формирование) личности; 12) идеология (ценности) образовательной политики 10.
Весьма любопытно сравнить современную проблемную ситуацию в образовании с таковой столетней давности. Для этого приведем систему принципов образовательной реформы, действовавших до 1917 г. (они были утверждены Николаем II еще в 1901–1902 гг.) [3, с. 104]: 1) необходимость «коренного пересмотра и исправления» учебного строя; 2) преодоление отчужденности школы от семьи и ее бюрократического характера; 3) целостность образования, не только умственного, но и нравственного; 4) усиление физического воспитания и исправление вредного для здоровья учащихся характера занятий в школах (в частности, устранение «перегрузок»); 5) всесторонний пересмотр основных типов сложившихся в России школ (классического и реального направления) и, возможно, создание нового типа среднего образования; 6) умножение разного рода профессиональных учебных заведений (начальных, средних, высших), широкое развитие технического образования и преодоление разрыва между системой общего и профессионального образования; 7) национальный характер образования; 8) индивидуализация обучения, адаптация к возрасту, социальным и индивидуальным особенностям учащихся; 9) законченность («самодовлеющий» характер) каждой ступени образования (школа, например, должна не только и не столько готовить к высшему образованию, но и давать законченное образование, позволяющее каждому найти его путь в жизни).
Нетрудно заметить удивительное сходство проблем в стране спустя сто лет не только в качественном, но и в количественном отношении. Не случайно у нас бытует (в разных интерпретациях, что неважно: 5 и 200 лет, 10 и 100 лет) изречение врача и писателя М. Осипова о том, что «за пять лет в России меняется многое, за двести — ничего» [7]. Это подвигло нас к попытке сравнения условий «старого» советского (1920–1930 гг.) и нового, современного (2020–2030 гг.) ликбеза, результаты которой — множество раздумий и вопросов (табл. 1).
Сравнительный анализ показывает, что при наличии многих сходных черт этих ликбезов существенное отличие обнаруживается в идеологическом факторе — самом важном звене не только образования, но и всей социально-политической и социально-экономической жизни общества.
Вся история человеческой цивилизации надежно подтверждает мысль социального психолога Гюстава Лебона (французского «Макиавелли группового общества») о том, что общество, лишенное идеологии и национальной идеи, заслуживает лишь названия стада баранов. При отсутствии идеологических ориентиров в обществе множатся самые разнообразные пороки [8]. Идеология (религиозная и светская) всегда сопрягалась в прошлом и так или иначе была основой воспитания, точнее, согласно И. Гербарту, «воспитывающего обучения» [9].
В свете проблем воспитания, вызванных попытками деидеологизации общественной жизни в стране, нам важно обращение к идеям К. Д. Ушинского о народности воспитания. Конспективно они выглядят так: 1) общей системы народного воспитания нет ни на практике, ни в теории (опыт иных народов в деле воспитания полезен, как полезен опыт всемирной истории); 2) общественное воспитание не решает само вопросов жизни (сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание идет по этой дороге и, действуя заодно со всеми общественными силами, помогает идти по ней личностям и новым поколениям); 3) общественное воспитание тогда действительно, когда его вопросы становятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого. По Ушинскому, «возбуждение общественного мнения в деле воспитания — основа всяких улучшений» [10, с. 170].
Именно от идеологических ориентиров общества отталкивается вся система целеполагания сферы воспитания и образования [11]. У нас в стране до последнего времени бытовал ошибочный стереотип об отсутствии на Западе идейной социально-экономической организации. Это в известной мере было характерно для индустриальной фазы, но в эпоху, когда ключевым ресурсом стали знания, экономика стала управляться системами идей. Хорошо известно, что в 1980-х гг. Б. Р. Скотт в Гарвардской школе бизнеса исследовал факторы снижения конкурентоспособности американского бизнеса. Выводы исследований были сенсационными: главный фактор снижения конкурентоспособности — слабая идеологическая работа в компаниях (!). Поэтому идеология как система ценностей — важный функциональный элемент политической системы общества, определяющий базовые пути его развития [12, с. 494–526].
Таблица 1. Анализ условий преодоления проблем в образовании страны (Table 1. Аnalysis of conditions for overcoming problems in the country’s education )
|
Факторы |
Ликбезы |
|
|
1920–1930 гг. |
2020–2030 гг. |
|
|
Стартовый уровень грамотности населения |
Низкий (от 12 до 20% в целом по стране), вплоть до фактов неграмотности дворян 11 |
Точных данных нет, ориентиры на 2019 г.: 0,2% неграмотных вообще, а 0,4% — с начальным образованием 12 |
|
Идеологические ориентиры |
Государственная (обязательная) идеология — марксизм-ленинизм |
Согласно ст. 13 Конституции РФ в стране идеологическое разнообразие и отсутствие обязательной идеологии |
|
Религиозноцерковный канал |
Подавление властью церкви: репрессии духовенства, отъем помещений церквей 13 |
Невмешательство государства в дела церкви и религиозных общин, конструктивное и многоплановое сотрудничество государства и церкви [13] |
|
Материальнотехническая база (МТБ) воспитания и образования |
Недостаток бумаги, письменных принадлежностей, школьных помещений14 |
Достаточность МТБ: школ, учреждений допобразования, сети интернет (на сентябрь 2022 г. РФ находится на 6-м месте в мире по доступности интернета. Минцифры в 2021 г. подключило к скоростному интернету 28,5 тыс. школ, сейчас им обеспечены почти 100% школ страны, кроме расположенных в труднодоступных местах) |
|
Качество педагогических кадров и результаты обучения |
Недостаточность квалифицированных кадров (до 1917 г. было 167 тыс. учителей). Привлечение идейных, но непрофессиональных в педагогическом плане членов ВЛКСМ (режим культпоходов), часто их итог — формальная грамотность 15 |
Хотя в стране более 2 млн учителей, их не хватает. Средний возраст учителей в стране — 46,3 года. Учителей старше 50 лет — 41,9%. Пока учителей старше 29 лет — 11–13% 16, но ожидается, что к 2029 г. педагогов моложе 30 лет будет всего 6% 17 |
|
Состояние сферы учреждений культуры |
Неразвитость сети библиотек, театров, клубов, домов культуры (ДК) и музеев по всей территории страны |
За последние 30 лет число ДК сократилось с 72 тыс. до 40 тыс. Конкуренты: торгово-развлекательные комплексы, их цель — коммерческая выгода [14] |
|
Организационная форма воздействия |
Преимущественно принуждение — контроль за ликбезом был поручен ВЧК [15] |
Преимущественно убеждение (добровольность) |
|
Информационный фон: — официальный (государственный); — неформальный, искаженный (слухи) |
Бедный: печатные СМИ, агитплакаты («окна РОСТА»), устные агитационные мероприятия (культпоходы ВЛКСМ) Радио: 1924–1928 гг. — АО «Радиопередача» (под идеологическим контролем Наркомпроса), 1928–1933 гг. — Рабоче-крестьянский университет на радио, с 1933 г. — Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР (радиосетка). Кино: в 1918– 1921 гг. вышло около 100 короткометражных агитационных фильмов Значительный (из-за недостаточности источников информации), трудностей верификации информации |
Огромный насыщенный и многоканальный: электронные и печатные СМИ, развитая сеть телевидения (эфирное, кабельное, спутниковое, интернет-телевидение), широкополосный интернет, множественные социальные сети Меньшая, по сравнению с СССР, но достаточно большая сеть кинотеатров [16], библиотек, интернет-кафе, клубов и различных развлекательных центров с беспроводными локальными сетями — технологиями Wi-Fi Существенный (из-за избыточности мнений журналистов, массы блогеров). Наличие большого числа фейков (вбросов лживой информации) |
Умаление внимания общества к идеологии и воспитанию оборачивается большими потерями. В известной мере по этим причинам в России к перечисленным выше проблемам в последние годы добавилась еще одна — публичное насилие в школе 18. Как указывает главный психиатр России Зураб Кекелидзе, до 60% дошкольников страдают психическими аномалиями (аналогичный показатель среди школьников — 70–80%), у 30% школьников наблюдается дезадаптация в социуме. На этом фоне отечественную школу захлестнула волна бюрократизации: каждое заведение в среднем в год заполняет до 300 отчетов примерно по 12 тыс. показателей. Выросло эмоциональное выгорание учителей, и работать с детьми некогда. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), «майские» указы Президента РФ в части заработной платы педагогов не выполняются в 75 из 85 регионов, а средняя нагрузка педагогов превысила 28 часов в неделю. В такой ситуации нормально работать и жить некогда, не говоря о том, чтобы проявлять внимание к личности каждого ребенка.
Безусловно, понятие «образование» многомерно, ведь оно: 1) социальный феномен; 2) значимая ценность (социальная и индивидуальная); 3) функция общества и государства по отношению к гражданам и одновременно функция граждан по отношению к своему собственному развитию; 4) иерархическая система («лестница») разных уровней образования; 5) пространство жизнедеятельности общества, включающее другие близкие области — культуру, досуг и т. п.; 6) деятельность, в центре которой взаимодействие педагогов и обучающихся; 7) процесс усвоения знаний и результата образовательной деятельности [17]. По документам ЮНЕСКО («Международной стандартной классификации образования (МСКО)»), образование — «целенаправленная деятельность, предполагающая определенную форму коммуникации, нацеленной на обучение» 19.
Согласно ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 20, образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Та же статья трактует воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа России, природе и окружающей среде.
По мнению философов страны, эффективное развитие отечественного образования — главный фактор обеспечения национальной безопасности по всем ее компонентам (общества, государства, социальных институтов, семьи и личности). Для того чтобы решить проблему, надо найти баланс между противоречивыми требованиями: 1) усиления академической мобильности и сохранения-развития собственной ценности российского образования; 2) открытости образования и сохранения автаркии (для обеспечения национальной самобытности). Лишь внесение принципиальных корректив в основные направления образовательной политики способно обеспечить развитие страны в эру бурного роста информационных технологий и цифровизации общественной жизни [18]. Эту позицию разделяют политологи страны [19], а также ученые, исследующие проблемы влияния развития системы образования на все аспекты экономической и национальной безопасности современной России [20].
Любопытно, что, несмотря на исключительную роль воспитания и образования в жизни общества, исследование проблем влияния системы образования на национальную безопасность государств началось сравнительно недавно. У нас история появления исследований связана с периодом становления советской власти [21]. Первая попытка перейти от рассуждений об экономической отдаче образования к разработке конкретной методики ее исчисления была предпринята в 1920-е гг. С. Г. Струмилиным [22]. Он построил методику, использовав метод редукции труда, т. е. приведение различных его видов (сложного, простого, квалифицированного, умственного, физического)
к общей единице измерения, которую можно было бы принять за исходный показатель при построении системы коэффициентов сложности труда. Этот метод позже использовали и другие ученые, исследовавшие феномен воздействия образования на производительность труда, но убедительных результатов получить не удалось. Более плодотворной оказалась разрабатываемая западными учеными теория «человеческого капитала» (далее —ЧК) [23].
Впервые в отечественной литературе стоимостную оценку ЧК России по методу Джоргенсона-Фраумени дал Р. И. Капелюшников [24]. По его данным, в 2010 г. запас ЧК страны составлял свыше 600 трлн рублей — примерно по 6 млн рублей на душу населения. Заметим, что он в 13 раз превосходил ВВП страны и в 5,5 раза — объем физического капитала. Расчеты показали, что по паритету покупательной способности (ППС) Россия располагала в 2010 г. ЧК в размере около 40 трлн долларов, а его уровень в расчете на душу населения приближался к 400 тыс. долларов.
В 2002–2010 гг. в реальном выражении он вырос вдвое. Это свидетельство того, что в нулевые годы экономика страны становилась все более «человекокапиталистической». Отрицательное влияние на динамику ЧК оказывал фактор старения населения, положительное — снижение коэффициентов смертности, сдвиги в образовательной структуре, усиление образовательной активности молодежи, улучшение ситуации с занятостью и рост реальной заработной платы. Тем не менее сравнение характеристик ЧК, связанных с обучением специалистов-профессионалов в России, с аналогичными характеристиками соответствующих категорий работников в 16 зарубежных странах (на материалах работ по Международной программе социальных исследований ISSP Work Orientation, по данным за 2015 и 2005 гг.) показало, что в последнее десятилетие есть отставание базового образования, накопленного опыта, дополнительного профессионального образования с нашей стороны [25]. Здесь Россия сопоставима с Индией, Венесуэлой и Мексикой. Сильное отставание наблюдается по характеристике обновления знаний. Мы слабо включены в третью образовательную революцию, ее суть не только в мас-совизации высшего образования, но и в «образовании в течение всей жизни». Это понимается учеными и отражается в тематике проводимых исследований в данном направлении [26].
Наступивший век принес России глубокие изменения и новые вызовы. По мнению Д. И. Фельдштейна, «ребенок 2010 года — младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, старшеклассник, который при сохранении сущностных оснований и действенных механизмов сознания, мышления разительно отличается не только от того „дитя“, которого описывали Я. Коменский, И. Песталоц- ци, К. Ушинский, Н. Пирогов, Р. Заззо, Ж. Пиаже, Я. Корчак и другие великие детоводители прошлого, но даже качественно отличается и от ребенка 90-х годов XX века. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим» [27, с. 48]. В современных условиях реально выросла опасность, о которой предупреждали еще великие русские философы, начиная с Владимира Соловьева. Это опасность вырождения человечества в «зверочеловечество», она связана с тем, что рост материальных потребностей опережает рост потребностей духовных. Активно насаждаемая рыночная идеология, ориентированная на сиюминутный успех, внедряясь в интеллектуальную жизнь, способна, по мнению академика РАН Н. Н. Моисеева, «ввергнуть все общество в мир абсурда» [27, с. 53]. Отсюда нетрудно сделать вывод о том, что образование и воспитание совершенно точно приобретают новую роль — роль обеспечения национальной безопасности России в целом.
Опасности, возникающие перед системой образования. Ученые называют опасности, возникающие перед системой образования.
Первая появляется из установки властей, по которой образование станет богаче, если богатым станет государство. Возразить против этой установки можно словами Д. Бока (президента Гарвардского университета в 1971–1991 гг.): «Если вы считаете, что образование слишком дорого, попробуйте подсчитать, сколько стоит невежество», а также фразой 42-го президента США Б. Клинтона: «Мы имеем хорошие университеты не потому, что мы богаты, а мы богаты потому, что имеем хорошие университеты».
Вторая опасность вытекает из членения образования на составляющие, где механизм прост — разведение по разным графам бюджета и борьба каждой части за долю государственной поддержки. Однако ясно, что школа, вузы, наука и гуманитарная культура порознь не выживут. Ведь в нашей стране под образованием традиционно понимается органическое единство школы, фундаментальной науки как основы для подготовки специалистов и гуманитарной науки как основы духовного единства народов России.
Третья опасность следует из административновольных предписаний о содержании образования. Речь идет о ложных установках на воспитание гражданственности и нравственности. Так, в докладе 1995 г. Всемирного банка «Россия: образование в переходный период» отмечается, что минимальная гражданственность россиян может включать, а может и не включать «способность воспринимать русское искусство и литературу».
Четвертая опасность происходит из падения престижа, а также государственной и общественной значимости фигуры учителя и появления роли менеджера и фасилитатора в образовании [28].
Таблица 2. Обзор существующих проблем по уровням образования в стране (Table 2. Review of current problems by levels of education in the country )
|
Уровень |
Описание угроз-проблем |
|
Дошкольное образование (ДО) |
Федеральным законом № 273 предусмотрено обучение в ДОУ детей от 3 до 7 лет. ДО для детей от 2 месяцев до 3 лет (ясли) заменили дошкольным развитием. Ясельные группы — компетенция учредителей ДОУ (муниципалитетов), их начали тихо «сворачивать». Услуги няни — от 200 руб./час. [29]. В большинстве регионов недостаточно мест в государственных ДОУ и учреждениях ДО, высокая стоимость общего и дополнительного ДО в частных учреждениях, не хватает квалифицированных кадров [30]. Материальная обеспеченность ДОУ (город/село; %): пищеблок — 100/96,5; медицинский кабинет — 100/80; музыкальный зал — 95,7/78,8; бассейн — 12/3,5; кабинет логопеда — 60/37,6; выход в интернет — 50/18,5 |
|
Начальное общее образование (НОО) |
Усиление ориентации на потребление; отрыв от культурных корней и истории общества; повышение уровня тревожности и страхов из-за стремления родителей ограничивать активность и самостоятельность детей; рост агрессивности из-за фактора развития компьютерных игр, снижение контроля за своим поведением; экранная зависимость, потребность в готовых развлечениях; обеднение общения детей со сверстниками и рост одиночества; недоверие к окружающему миру, особенно к миру взрослых, влекущее формирование инфантилизма21 |
|
Основное общее образование (ООО) |
Если в начале 1990-х гг. у многих подростков было чувство одиночества, а тревожность — на 4–5 местах по силе проявления, то к 2010 г. тревожность у 12–15-летних вышла на 2-е место. Растет число детей с эмоциональными проблемами, идет снижение избирательного внимания, оценки значимости информации и объема рабочей памяти. Есть тенденция к снижению темпов продольного роста детей, усилились заторможенность их психического развития (20% детей) и проявления пограничных состояний [27] |
|
Среднее общее образование (СОО) |
По данным Минздрава России, лишь 10% выпускников школ здоровы, 60–70% имеют нарушения зрения, 60% — осанки, 30% — хронические заболевания. Растет число детей с олигофренией и психопатией. Оптимизм вселяет то, что увеличивается количество одаренных детей. Однако знаменательно, что у подростков в приоритете не развлечения, а поиск смысла жизни, идет смена ценностных ориентаций. Заметен дрейф ценностей: примерно с 2007 г. на первые позиции выдвинулись интеллектуальные, волевые и соматические ориентации, но эмоционально-нравственные ценности уходят на второй план [27] |
|
Среднее профессиональное образование (СПО) |
Сегодня такое образование имеет 25% населения, а высшее — 23%. После 2009 г. (переход на ЕГЭ и введение в 2014 г. ОГЭ как обязательного), по данным Росстата, до 40% окончивших 9 классов общеобразовательной школы поступают в колледжи/техникумы с целью получить рабочую специальность. После 10–11 класса и сдачи ЕГЭ еще до 15–17% уходит в СПУ. Таким образом, сегодня более 50% учащихся получает СПО [31]. В числе проблем СПО: 1) недостаточное финансирование; 2) изношенность МТБ учреждений (недостаток компьютеров, аудио-, мультимедиатехники); 3) сохранение диспропорции между требованиями рынка и качеством подготовки специалистов (сложности трудоустройства); 4) слабая связь ряда учреждений СПО с предприятиями страны. Лишь 17% выпускников колледжей имеют представление об управлении бизнес-процессами. Для развития «мягких навыков» важно стимулировать активность студентов СПО в культурной, научной и общественной деятельности [32] |
|
Высшее образование — бакалавриат (ВОБ) |
По мнению ученых МГТУ им. Н. Э. Баумана, обучение в бакалавриате втузов де-факто «свернулось» до 3 лет: первые полгода уходят на «доучивание» бывших школьников для нормального уровня восприятия курса высшей школы, последние полгода — на преддипломную практику бакалавра (в Великобритании и ФРГ абитуриенты перед поступлением в вуз в течение 2 лет обучаются в специальных классах-колледжах 12–14-летних школ, т. е. европейский бакалавриат при сложении времени предвузовского и вузовского обучения соответствует российскому специалитету) [33] |
|
Высшее образование (ВО) — специалитет, магистратура |
По опросам ВЦИОМ, перечень проблем ВО: низкое качество, коррупция, проблемы трудоустройства, недоступность образования, ЕГЭ, слабая МТБ вузов, недостаток бюджетных мест, низкая зарплата ППС и нежелание студентов учиться, большое число коммерческих вузов [34]. В 2016 г. 71% всех магистрантов составили выпускники бакалавриата и специалитета этого года, из 207,5 тыс. мест в магистратуре федеральный бюджет оплачивал 110,1 тыс. мест. Остальное — места, за которые платили сами студенты (реже — регионы). Несмотря на высокую стоимость программ, растет число лиц, готовых платить за свою учебу. Вузы, предлагающие платные программы магистратуры, хорошо зарабатывают: в МГИМО цены на обучение начинаются с 300 тыс. рублей, в ВШЭ — с 260 тыс. в год. Есть вузы с высокой долей магистрантов (в Пущинском естественно-научном институте и Российской школе частного права — 100%, в Академическом университете РАН — 66%, в Дипломатической академии МИД — почти 50%, в Физтехе — 29%, в МГИМО — 27%) 22. С 2014–2015 уч. года по 2019–2020 уч. год заметна тенденция к снижению числа бюджетных мест в магистратуре. Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. — в 1,5 раза [35]. Огромная проблема образования в стране обусловлена становлением рынка заказных учебных работ. Сегодня этот рынок в России составляет 5–9 млрд руб. в год (стоимость работ: курсовых — 0,9–10 тыс. руб., дипломных — 7–50 тыс. руб., магистерских диссертаций — 12–80 тыс. руб.) [36; 37] |
|
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации |
Основные проблемы: 1) система плохо поддается управлению имеющимся набором нормативно-правовых и организационных механизмов. Нет документов, предусматривающих стратегические ориентиры и регламентирующих процесс подготовки с учетом реализации государственных программ; 2) невысокая результативность аспирантуры и докторантуры: снижается научный уровень диссертационных работ; сокращается доля обучающихся, завершающих обучение с защитой диссертации; 3) несмотря на социальный заказ на подготовку кадров для сфер деятельности, прямо не связанных с наукой (бизнес, политика, госуправление, сфера услуг), важнейшая функция системы — воспроизводство кадров науки и высшей школы, для чего нужна новая система формирования контрольных цифр приема на бюджетные места в вузах, ориентированная именно на это; 4) цепь «магистратура–аспирантура–докторантура» не отвечает современным представлениям о системности образования (не согласованы программы магистратуры, аспирантуры, докторантуры). Часто аспиранты и докторанты предоставлены сами себе [38; 39] |
Продолжение таблицы 2
|
Уровень |
Описание угроз-проблем |
|
Дополнительное образование детей и взрослых |
В стране 5,4 тыс. УДО (ДХШ и ДШИ), где работает 123 тыс. педагогов и обучается более 1,4 млн детей (9%). Высока занятость детей, что противоречит принципу их здоровьесбережения. УДО не наполнены нужным оборудованием (компьютерами, музыкальными инструментами). Дети не готовы к трудоемким видам работ, их заменяют имитационными художественными технологиями. Учеными выявлен феномен угасания у детей творческого воображения. Вырос объем бюрократической работы в УДО (лицензирование и т. п.). Упал престиж творческих специальностей, низка оплата труда, педагоги перегружены и помещены в бюрократические рамки свидетельств о достижениях, осуществления часто лишней методической работы и пр. [40]. За последние годы уменьшилось число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, детских оздоровительных лагерей. Количество спортивных школ растет, но они часто ориентированы на переход в «большой коммерческий спорт», что ведет к ранней селекции и отсеву детей. Налицо тенденция к росту доли сектора платных услуг ДО детей, предоставляемых государственными и негосударственными организациями 23. Современные условия усиливают процесс взаимозависимости различных сфер жизни и деятельности, что оказывает влияние на становление дополнительного образования детей [41]. Феномен образования взрослых возник недавно как социальная технология постиндустриализма. В аграрную и индустриальную эпохи образование давалось детям, а переобучение взрослых либо было невозможно, либо еще не выделилось в особую сферу социальной реальности. Неизбежная модернизация России в направлении неоиндустриализма требует формирования нового типа взрослого человека, выходящего из-под пресса дезинформационного общества. Новый человек становится фокусом глобального прогнозирования будущего человечества, предметом народной мечты и задачей достойной своего народа государственной власти [42] |
|
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) |
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) приоритетом названо создание условий для систематического обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) не менее 25–30% занятого населения. По статистике, ежегодно услугами ДПО пользуются лишь 2% экономически активного населения страны (до 1,5 млн человек) [43]. Эта сфера расширяет возможности традиционного образования, но нуждается во внедрении инновационных методов и принципов, принятии нормативно-правовых и организационно-методических мер для достижения синергетического эффекта. По данным ВШЭ, в целом в 2017 г. прошли ДПО не более 12% работников [44]. Участие в ДПО не связано с ростом удовлетворенности трудом, слабо интегрировано в структуры карьер в сегменте рабочих мест с низко-средним уровнем квалификации, не открывает возможностей профессиональной мобильности по предпочтениям работника. Однако профессиональное обучение и ДПО безработных и незанятых граждан в системе органов службы занятости в современных условиях является эффективной мерой содействия занятости24 |
Таким образом, сегодня проблем в системе образования России много, причем на всех его уровнях (табл. 2). Внимательный взгляд позволяет обнаружить, что большинство из них так или иначе связано с ущербностью воспитательной работы с молодежью после развала СССР.
Негативные события, случившиеся после него, доказали, что признание в стране идеологического многообразия и отказ от установления в качестве государственной или обязательной какой-либо идеологии, согласно чч. 1 и 2 ст. 13 Конституции России, не привели к росту единства общества. В условиях отсутствия достаточного времени для выстраивания равноправия политических институтов (партий, движений) страна пошла в сторону однопартийности (доминирование партии «Единая Россия») в структурах власти.
Ряд законопроектов фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду», касающихся снятия накопившихся проблем образования, не получили поддержки при голосовании в Госдуме 25.
В этих условиях чиновниками от образования была произведена генерация новых проблем, касающихся содержания уровней образования в условиях регулярной смены ФГОС, включая самое главное — качество образования [45–47]. Как это часто бывает в России, генерация ФГОС в системе образования удивительно «совпала» во времени с цифровой трансформацией общества, лишь усугубившей накопившиеся проблемы.
Известно, что в отношении молодежи, появившейся в наступившем веке, М. Пренски, а затем Д. Спиром и А. Дигнаном были предложены термины — digital natives («цифровые туземцы»), а также born digital («цифровые со дня своего рождения»). Она отличается от прежней привычками интерактивности и многозадачности, серфинга в Интернете, предпочтением визуальных рядов текстам; выборочной концентрацией внимания (с целью уловить суть); новой стратегией потребления — просьюмин-гом (предпочтением продуктов, в создании которых можно принять участие); высокой эмоционально- стью и контактностью, стремлением к самосовершенствованию [48].
В наш лексикон уже прочно вошел термин «гаджет». По мнению редакторов журнала «Time», использование людьми гаджетов будет иметь серьезные последствия в ближайшие годы. Исследователи задаются вопросом о цене влияния цифровизации на физическое, психологическое и нравственное развитие молодежи, ведь «смартфоны и видеоигры стали идолами, которым нужно поклоняться» 26. Нами ранее уже отмечалось [49], что с 1990-х гг. учеными замечен феномен «клипового сознания». Термин стал часто использоваться как диагноз, огульно прилагаемый к процессам восприятия-усвоения информации. Считается, что клиповое восприятие обеспечивает «интернет-поколению» быстроту ориентации в разрозненных фрагментах информации, но молодежь с таким мышлением зависима от чужого мнения. Клиническая психология указывает на риски киберсоциализации, они связаны не только с формированием у молодежи аддиктив-ного поведения, но и с возникновением отклонений в развитии психических функций 27.
Перечень выявленных и еще скрытых неприятностей от цифровизации общественной жизни и образования огромен и требует внимания представителей разных наук. Оспаривая утверждение о безвредности цифровых технологий, ученые предупреждают о «бомбардировке мозга аудовизуальными стимулами», ограничивающими созревание способностей к эмпатии и идентичности. Понимание факта «клиповиза-ции» мышления требует поиска адекватных средств реагирования. Проблема, на наш взгляд, не только биопсихосоциальная, она завязана на проблемы идеологии и воспитания. Решение проблемы нам видится преимущественно в лоне «массовизации воспитания», опирающейся идеологически на великую отечественную культуру (где достаточно идеологического разнообразия, но есть единый патриотический ориентир — служение Отечеству!), а технологически — на систему современных цифровых технологий, дающих массу возможностей создания ансамблей разных реальностей — от дополнительной до виртуальной.
Это очень важно: сегодня в сфере воспитания страны образовались большие «авгиевы конюшни». Начало СВО на Украине стало индикатором масштабов разложения в ряде вузов, как, например, в НИИ ВШЭ, пропитанном русофобией и распространяющем яд пораженчества среди российской молодежи.
Здесь нам следует обратиться к позитивному опыту Белоруссии, где работа по «зачистке» таких вузов уже ведется не первый год. Так, Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) — кузница белорусского национализма («выкормыш» Дж. Сороса и «клон» ВШЭ) — волевым решением белорусских властей изгнан из страны еще в 2004 г. 28
В законе об образовании слово «воспитание» не случайно стоит впереди слова «обучение». Закон дает понять, что воспитание не просто солидарный с обучением процесс, он задает целевую установку: готовить будущих специалистов к деятельности в интересах своей страны. Подход диктует выбрать в качестве основных направлений воспитания формирование у воспитанников базовых качеств: гражданственности, патриотизма и нравственности. Однако социологический анализ показывает, что установки, обусловленные семьей, порой противоречат задачам социализации и гражданского воспитания студентов. Усиливают противоречия вузы, желая учесть разновекторные интересы семьи, потребности работодателей и приоритеты государства [50].
Известно, что измерение уровня воспитанности человека — непростая, но важная задача. Поэтому можно считать удачей предложенную Б. В. Усмановым несложную, но дающую вполне объективную картину модель диагностики действенности процессов воспитания в профессиональном учебном заведении [50] (табл. 3).
Таблица 3. Модель индикаторов действенности воспитательной работы в вузе
(Table 3. Моdel of indicators of efficiency of work related to upbringing at a university )
|
Наличие (или проявления) |
||
|
Гражданственности |
Патриотизма |
Нравственности |
|
оценивается |
||
|
оценками по итогам освоения общественных наук: истории, права, экономики, экологии |
фактами защиты интересов Родины в неординарных ситуациях |
статистикой нарушений дисциплины, норм права, правил общежития |
|
мерой участия студента в гражданских акциях, проводимых вузом |
фактами участия в безвозмездных акциях, жизни студотрядов, донорстве, волонтерстве и благотворительности |
по характеристикам общественных организаций и от лица руководителей вуза |
|
соблюдением студентом паспортного, визового и туристического режимов |
несением воинской повинности в тех или иных формах, готовностью по окончании вуза работать в России |
отсутствием судебных дел и общественных порицаний в студенческой группе |
Если решение проблемы «народного воспитания» в современном сетевом мире видится нам преимущественно в лоне «массовизации», то решение проблемы обучения — качественной профессиональной подготовки, особенно кадров высшей квалификации, точно требует индивидуализации (элитари-зации) — опоры на индивидуальные особенности обучающихся, задатки, способности, таланты [51]. Поясним мысль. В мире систем известен принцип гетерохронии развития как закон нормального онтогенеза, благодаря ему каждый новый этап — результат сложных межфункциональных перестроек. Этот принцип — проекция всеобщих законов диалектики на индивидное развитие систем. В теории решения изобретательских задач принцип гетерохронии известен как закон неравномерного развития частей любых систем; чем сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей [52, с. 126].
Еще сто лет назад У. Липпман пришел к пониманию факта, что, воспринимая мир, человек не способен «объять необъятное» [53]. Преодолевая разнообразие мира, человек воспринимает лишь то, что ожидают воспринять его стереотипы. Индивидные мнения ученый называл «общественными мнениями» — с маленькой буквы, полагая, что из них «формируется то, что можно назвать Государственной Волей, Групповым Сознанием, Общественной Целью» [54, с. 51]. Л. Сэвом даже выявлен «парадокс индивидуальности»: каждый индивид своеобразен, отсюда своеобразие — факт социальный, т. е. оно условие индивидуальности. Однако из-за того, что индивидуальность — факт социальный, своеобразие индивида оказывается несущественным(!) [55, c. 367–368]. Поэтому, по мнению философа В. А. Герта, «процессы, направленные „внутрь“ и „вне“ индивидуальности, составляют единый процесс индивидуализации, обеспечивают цикличность и процессность внутри индивидуального бытия» [56, с. 214]. Сегодня анализ взаимосвязи индивидности и социальности вообще сверхактуален. Ведь если прежде ученые слабо видели человека в потоках социальных революций, то сегодня они пишут об индивидных революциях как факторах не меньшего масштаба [57].
Многое изменилось в нашей стране по сравнению с Российской империей и СССР, но в обществе живут, испытывая циклы взлета и падения («эффект Икара»), глубинные социальные стереотипы [58]. Лишь опираясь на них, следует формировать концептуальную основу системы элитной подготовки будущих специалистов, ведь кавалерийской атакой проблем отечественного образования не решить.
Существующие ресурсные ограничения и действие закона неравномерного развития частей системы ведут к пониманию идеи «мобилизационных прорывов» в образовании типа «инженерного спецназа» [59; 60], которые вполне соответствуют духу отечественного менталитета и «русской модели управления» [61].
В наступивший 2023 год, объявленный Указом Президента России от 27 июня 2022 г. № 401 годом педагога и наставника, важно переосмыслить роль и опыт отечественного института наставничества — одной из самых древних и эффективных технологий профессиональной социализации. Для нашей страны наставничество привычно. Его основы заложили Н. Н. Булич, С. А. Рачинский, Д. И. Тихомиров, К. Д. Ушинский и др. В ушедшем веке ему посвятили труды П. П. Блонский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий и др.
В 1930-е гг. большой опыт был накоплен в Центральном институте труда (ЦИТ), научные основы наставничества в СССР исследовали С. Я. Батышев, А. С. Батышев, Н. М. Таланчук, Н. А. Томин и др. Высокая эффективность наставничества как персонифицированного (элитарного) воспитания-обучения доказана в нашей стране в течение веков «производством» мировых гениев литературы, музыки, техники и изящных искусств. Ведь сама суть концепции элитаризма заключается в отделении лучшего от худшего, «массовизация» здесь исключена. Поэтому исследования феномена наставничества охватили все сферы общественной жизни [62].
При этом важно не допустить ошибок недавнего прошлого. По мнению председателя Общероссийского общественного движения «Образование — для всех» доктора философских наук О. Н. Смолина, ранее, в 2010 г., объявленном годом учителя, реально ничего для педагогов и школы не было сделано. Удачнее был лишь 2012 год, когда появилось одиннадцать (известных под именем «майские») указов Президента РФ № 596–606, включая Указ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 597. Лишь в тот год учителям была выплачена нормальная зарплата в пересчете на цены и на реальную нагрузку. Но два года спустя, в ноябре 2014 г., на форуме ОНФ было объявлено, что поручения президента, отданные по итогам майских указов, выполняются лишь на 23% 29, хотя В. В. Путин заявлял, что за их неисполнение грозит «публичная политическая персональная ответственность». Пока ничего не изменилось: за истекшие годы объем нагрузки учителей рос и к началу 2023 г. в Омске достиг 2,01 ставки, т. е. сегодня у среднего учителя не 18, а 36 уроков в неделю(!) 30.
Выводы
Всей историей человечества доказано, что лишь хорошее образование служит надежным пропуском во власть. В условиях несовершенного общественного устройства, существующего в современной России, влиятельные сообщества, находящиеся у власти и именуемые «элитой», не заинтересованы в продвинутой просвещенности и воспитании народа. Как и прежде, им приходится идти на разные уловки и прибегать (под прикрытием провластных массмедиа) к демонстрации «успехов» образовательной политики во избежание осознания молодежью реального положения дел, что способно привести к социальному взрыву в стране.
С одной стороны, стремительное распространение интернета и социальных сетей создало новые проблемы и условия для наращивания неравенства, теперь уже нового — цифрового, но существенно сузил возможности правящих элит по дезинформации населения. В связи с этим непростой, но важный опыт ликбеза и превращения СССР в страну высокой грамотности должен стать, на наш взгляд, основой проектирования и реализации позитивных изменений отечественной системы воспитания и образования в условиях цифровизации социально-экономической жизни.
Стартовые условия «нового» современного ликбеза в материально-техническом отношении несравненно лучше, чем сто лет назад, но он невозможен без коррекции нравственно-идеологических ориентиров на базе идей народного воспитания и социальной справедливости, а также без доказательства не только на словах, но и на деле служения Отечеству высшим руководством нашей страны.
Перспективы. Дальнейшим направлением исследования может стать анализ теории воспитания в контексте изменений, происходящих в современной гуманитарной науке и социальной практике; уточнение и конкретизация отдельных фундаментальных ее положений; рассмотрение ключевых проблем, препятствующих продуктивному развитию теории воспитания.
Список литературы Нужен новый ликбез: старые и новые проблемы системы воспитания и образования в России
- Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, Ginebra 2016. 172 р. doi:10.18800/economia.201801.012.
- Kahan Arcadius. Russian economic history: the nineteenth century. Chicago, 1989. 244 р.
- Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М., 2009. 176 с.
- Иванова Г. М. Государственная политика ликвидации неграмотности в СССР в 1950-1960-е гг. // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2017. Т. 10, № 1(29). С. 27-37.
- Чудинова В. П. Функциональная неграмотность — проблема развитых стран // СОЦИС. 1994. № 3. С. 98-102.
- Колесникова И. А. Новая грамотность и новая неграмотность двадцать первого столетия // Непрерывное образование: XXI век. 2013. Вып. 2. С. 1-14.
- Осипов М. В родном краю // Знамя. 2007. № 5. URL: https://znamlit.ru/publication.php?id=3278 (дата обращения: 28.02.2022).
- Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Рябова И. Г. Самоопределение и самореализация молодежи России: социально-нравственные и психолого-педагогические аспекты проблемы // Интеграция образования. 2021. Т. 25, № 3. С. 440-462.
- Южанинова Е. В. «Лучший педагог среди философов и лучший философ среди педагогов»: к 245-летию со дня рождения И. Ф. Гербарта // Историко-педагогический журнал. 2022. № 1. С. 69-80.
- Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании // Русская школа. М., 2015. С. 74-170.
- Лебедев О. Е. Теоретические основы педагогического целеполагания в системе образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1992. 37 с.
- Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль. М., 1996. 560 с.
- Мальцева В. Р., Власов В. В. Взаимодействие государства с РПЦ в решении внутриполитических задач // Концепт. 2017. Т. 39. С. 3131-3135.
- Стрельникова П. В., Валуйская Н. В. Упадок системы домов и дворцов культуры в России // Молодой ученый. 2022. № 22(417). С. 61-63.
- СологубН. Н. Ликвидация неграмотности в Среднем Поволжье в 1917-1930-х годах : автореф. дис ... канд. ист. наук. Пенза, 2004. 23 с.
- Маслик К. В. Современное состояние и перспективы развития организаций индустрии кинопоказа в России // Петербургский экономический журнал. 2016. № 4. С. 117-126.
- Крухмалева О. В. Современные тенденции в получении образовательных услуг // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 83-88.
- Мороз Е. Ф. Система образования России — стратегический фактор эффективного обеспечения национальной безопасности: социально-философский аспект : дис. ... д-ра филос. наук. Красноярск, 2017. 335 с.
- Фельдман О. А. Образовательный потенциал системы национальной безопасности России : автореф. дис. ... д-ра полит. наук. М., 2011. 44 с.
- Малолетко А. Н. Концепция экономической безопасности развития системы высшего образования России : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2009. 42 с.
- Ерошин В. И. Образование как фактор обеспечения экономической безопасности // Наука и школа. 2017. № 4. С. 33-41.
- Струмилин С. Г. Хозяйственное значение народного образования. М.-Л., 1924. 62 с.
- Schultz T. W. Investment in Human Beings. Chicago, 1962.
- Капелюшников Р. И. Сколько стоит человеческий капитал России? М., 2012. 76 с.
- Кудаев Р. Э. Формирование национальной стратегии человеческого развития в условиях глобальной социально-экономической интеграции : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2011. 22 с.
- Латова Н. В., Латов Ю. В. Опоздавшие к третьей образовательной революции (компаративистский анализ человеческого капитала российских специалистов-профессионалов) // Journal of Institutional Studies. 2020. Т. 12, № 2. С. 67-85.
- Фельдштейн Д. И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Вестник практической психологии образования. 2011. Т. 8, № 1. С. 45-54.
- Некрасов С. Н., Джолиев И. И., Сосновских Д. С. Воспитание патриотизма в системе образования взрослых как фактор национальной безопасности России // Аграрное образование и наука. 2017. № 4. URL: http://cdo.urgau.ru/images/2017/04/15_ 04_2017.pdf (дата обращения: 28.02.2022).
- Бояхчян Р. А. Проблемы дошкольного образования // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 10. https://ekonomika.snauka.ru/2017/10/15345 (дата обращения: 24.01.2023).
- Грязнова Е. В., Козлова Т. А., Тихоненко Ю. В., Курочкина Т. В. Дошкольное образование: проблемы в современной России // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9, № 2(31). С. 118-120.
- Дробышева Е. А. Современное состояние и проблемы развития среднего профессионального образования в России // Молодой ученый. 2019. № 36(274). С. 35-36.
- Лыткина В. С. Проблемы среднего профессионального образования в современных условиях // Концепт. 2017. Т. 25. С. 41-43. URL: http://e-koncept.ru/2017/770493.htm (дата обращения: 17.03.2022).
- Двуличанская Н. Н., Фадеев Г. Н. Бакалавриат в техническом университете: проблемы и пути их решения // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 3. С. 96-103.
- Франк Е. В. Высшее образование в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3. С. 40-41.
- Сергеева М. Г., Бурнакин М. Н. Современные проблемы и тенденции развития магистратуры в России // Казанский педагогический журнал. 2018. № 5. С. 51-57.
- Давыдов А. Знание продается за деньги // Коммерсантъ Наука. 2021. № 23. С. 40-46. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/4867251 (дата обращения: 20.09.2021).
- Давыдов А., Абрамов П. Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в России. М., 2021. 176 с.
- Ильина И. Е. Современные тенденции развития подготовки кадров высшей квалификации в России // Управление наукой и наукометрия. 2013. № 13. С. 159-172.
- Лихолетов В. В., Пестунов М. А. Псевдоинновации и конфликты интересов в инновационной сфере современной России как угроза национальной безопасности // Управление в современных системах. 2020. № 3(27). С. 70-81.
- Савлучинская Н. В. Сухарев А. И. Актуальные проблемы учреждений дополнительного образования в современном социокультурном пространстве // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. URL: https://science-education.ru/ ru/article/view?id=17407 (дата обращения: 20.02.2022).
- Голованов В. П. Развитие полисферности дополнительного образования детей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Тамбов, 2006. 53 с.
- Некрасов С. Н. Как образовать взрослых. Андрагогика неоиндустриализма как наука будущего. Екатеринбург, 2010. 344 с.
- Бобешко Е. В. Проблемы и перспективы развития отечественного дополнительного профессионального образования // Novainfo. 2016. № 54. С. 209-214.
- Кармаева Н. Н., Захаров А. Б. Неэкономические эффекты дополнительного профессионального образования для российских работников // Экономическая социология. 2021. Т. 22, № 2. С. 81-108.
- Лебедев О. Е. Восемь проблем модернизации содержания школьного образования // Народное образование. 2007. № 7. C. 142-146.
- Лебедев О. Е. Новый взгляд на образовательные стандарты // Вопросы образования. 2011. № 4. С. 291-305.
- Лебедев О. Е. Качество — ключевое слово современной школы. СПб., 2008. 189 с.
- Бережная Н. Ю. Поколение NEXT: психологические особенности // Культура и образование. 2015. № 4. URL: http:// vestnik-rzi.ru/2015/04/3270 (дата обращения: 14.05.2017).
- Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Караваев А. Ф. «Спасательный круг» профилактики ухудшения здоровья молодежи в эпоху цифровой трансформации образования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Т. 27, № 2(89). С. 173-188. https://doi.оrg/10. 24412/1999-6241-2021-289-000-000.
- Усманов Б. Ф. Вузовская среда и мера воспитанности студентов // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 1. С. 193-202.
- Толочёк В. А. «Задатки-способности-ресурсы» в детерминации социальной успешности человека // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы развития / отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М., 2017. С. 1265-1272.
- Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. М., 1979. 175 с.
- Walter Lippmann. Public Opinion. N.-Y., 1922. 136 p.
- Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. М., 2004. 384 с.
- Сэв Л. Марксизм и теория личности / пер. с фр. М., 1972. 582 с.
- Герт В. А. Индивидуальность и индивидуализация человека // Педагогическое образование в России. 2014. № 4. С. 209-214.
- Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. М., 2001. 314 с.
- Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. СПб., 2001. 159 с.
- Инженерное образование: мировой опыт подготовки интеллектуальной элиты / А. И. Рудской, А. И. Боровков, П. И. Романов, К. Н. Киселева. СПб., 2017. 216 с.
- Лихолетов В. В., Годлевская Е. В. О системно-философском и инструментальном базисе элитной подготовки будущих инженеров // Инженерное образование. 2018. № 23. С. 45-54.
- Прохоров А. П. Русская модель управления. М., 2002. 376 с.
- Медведев Я. В. Развитие феномена «наставничество» в педагогической науке и практике // Человек и образование. 2021. № 4(69). С. 151-157.