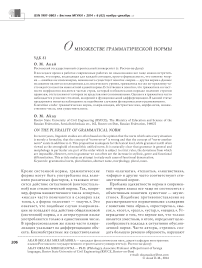О множестве грамматической нормы
Автор: Акай Оксана Михайловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Филологические исследования
Статья в выпуске: 6 (62), 2014 года.
Бесплатный доступ
В последнее время в работах современных работах по языкознанию все чаще можно встретить мнение, что норма, подходящая для каждой ситуации, просто формальность, что понятие «норма - ошибка» не совсем верно, помимо него существует понятие «норма - другая норма». Данное положение является полноценным для лексического уровня, грамматика все же по-прежнему часто видится оплотом монолитной единой нормы. Естественно и понятно, что грамматика и в частности морфология являются частью строя, который в обязательном порядке подчинен строгим правилам, отступления от которых не представляются возможными. Однако и в грамматике часто наблюдается усиление стилевой, жанровой и функциональной дифференциации. В данной статье предпринята попытка наблюдения за подобными случаями функционального размежевания.
Грамматическая норма, плюрализация, абстрактное имя, морфология, множественное число, имя существительное
Короткий адрес: https://sciup.org/14489890
IDR: 14489890 | УДК: 81
Текст научной статьи О множестве грамматической нормы
Кроме системной нормы, грамматические формы могут быть употреблены под влиянием различных факторов, к таковым относится действие ситуативной (контекстуальной) или стилистической нормы. так, например, формы множественного числа «спирты», «масла» часто помечаются в словарях как «спец.», а форма «плесени» — «научн.». Это означает, что подобные случаи плюрализации не попадают под действие общеязыковой (системной) нормы, а в литературном языке употребляются только в единственном числе. в профессиональном же языке часто плюрализация указывает на дифференциацию объекта. Квазиабстрактные же существительные типа «плагиаты», «теплоты», «лингвистики», «эфиры» и другие часто соответствуют стилистической норме.
Проблема адекватности нормы в современной теории языка все чаще не соотносится с объективным понятием «уместное — неуместное». Подобные противопоставления не рассматриваются нормативными словарями с пометами типа «бран.», «просторечн.», «высок.», «поэт.», «разг.», «устар.», «неценз.». Утверждение о том, что верное все, что только является уместным, в итоге, определяет целесообразность подхода к ситуативно обусловленной норме. часто авторы, стремясь создать большую речевую образность, нарушают аКай оКсана михайловна — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков ростовского государственного строительного университета (г. ростов-на-дону)
AKAy OKSAnA MiKhAilOvnA — ph.d. (philology), Associate professor of department of foreign languages, Rostov State University of Civil engineering (RSUCe, Rostov-on-don)
строжайшие грамматические законы, однако подобные нарушения не считаются грубым отступлением от нормы, а признаются соответствующими такому типу нормы, как коммуникативный.
72 абстрактных существительных, употребляемых только в единственном числе отмечено в «грамматике русского языка» (1953), среди них указывается слово «горе». однако лишь 16 подобных слов отмечено в сз (слепота, тишина, голод). Это происходит, потому что а. а. зализняк считает возможным образование плюральной формы от любого абстрактного существительного. но исключения все же присутствуют, и среди исключений мы снова видим слово «горе». м. в. Панов полагает, что отсутствие множественной формы у данного существительного обусловлено объективной причиной. некоторые абстрактные имена, которые не переосмысляются для обозначения тех или иных конкретных явлений, не могут иметь плюральной формы. возможно: он поделился со мной своей бедой или своими бедами, но неправильно: он поделился со мной своими горями (вместо о своем горе )».
однако, несмотря на данный факт, форма множественного числа, и форма понятная и адекватная, выступающая как средство тек-стообразования, — у этого слова есть. е. евтушенко, а. солженицын используют форму множественного числа от «горе». в таком случае о подобном употреблении можно сказать, что оно является удачным и соответствует ситуативной или контекстуальной норме. По мнению н. а. сениной, лингвопрагма-тика в наше время, несомненно, отражается на ортологии.
в настоящее время изучение коммуникативной нормы все еще остается лишь на начальном этапе: понятие коммуникативной нормы сформулировано таким образом, что признается любое отступление от нее в случае, если подобное использование расценивается как соответствие коммуникативной норме. Это само по себе является результатом изучения.
все больше словарей часто дают помету «доп.» — допустимое. Появляется предпоч- тение эластичной, нежесткой кодификации. в недавнем же прошлом понимание нормы формулировалось гораздо жесче и облига-торнее. об этом пишет в. а. звягинцева в 1996. однако это не должно означать потерю классической грамматической нормы среди всех вариантов нормы коммуникативной. «терпимая к отклонению кодификация должна сама после каждого отклонения как бы пружинить обратно в стабильное, свободное от напряжения положение и внушать такую игру оттенками своему читателю» (х. саари, 1986).
именно учитывая данный факт, нельзя поощрять расшатывание основ грамматического строя языка. выбор наиболее подходящего для употребления варианта предполагает поиск наиболее адекватного средства выражения. Подобные грамматические явления часто имеют разное стилистическое значение. здесь существенную роль играет изменчивость речевых условий и многозначность самого феномена.
а. а. реформатский говорил о singularia и pluralia tantum как об аномалиях, проявляющихся особенно ярко в грамматике языка. По его мнению, данный феномен интереснее для стилистики нежели для грамматики. Полагаем, что данное замечание в большей степени справедливо для разряда singularia tantum, так как этот разряд базируется на нестойкой основе. Подобные существительные гораздо логичнее назвать доминантно-сингулярными, ибо коммуникативно-оправданное множественное число от подобных существительных образуется довольно часто.
л. К. граудина не без основания отмечает, что для большинства абстрактных имен жесткое правило об отсутствии форм множественного числа не является в настоящее время актуальным, а представляется, скорее, глубоким анахронизмом. самый яркий пример расхождения норм мы наблюдаем именно у категории числа, так как именно у данной категории подобным образом сложилась языковая практика. в 1968 году авторы коллективной монографии «русский язык и советское общество» плюральные формы абстрактных имен квалифицировали как «капризно-нерегулярные», «непостоянные». в настоящее вре- мя наблюдается существенное расширение круга таких слов в русском языке.
встречаются отвлеченные существительные, для которых форма множественного числа является более обычной, чем форма единственного числа, например, существительное «слухи».
«не бойтесь слухов, правда — страшнее».
вот почему так часто говорят о возможности образования плюральных форм у абстрактных существительных вообще. отвлеченные имена признаются в словаре сз как имеющие оба числа, однако с условием, что плюральная форма имеет потенциальный характер у существительных неконкретной семантики в принципе. теоретически форма образования существует, однако практически употребляется редко или не употребляется вообще.
Подобной точкой зрения пренебрегает д. и. руденко, потому что в таком случае получается, что дифференциация значения абстрактного имени (семантический сдвиг) имеет грамматическую природу при образовании плюральной формы от абстрактных существительных. однако подобные явления не обладают большой регулярностью для отнесения их только к грамматике. все же более адекватной представляется характеристика абстрактных имен как лексико-грамматической разновидности.
существует мнение, что плюрализация абстрактных существительных — это примета языка нового времени, отражение эволюции развития языкового строя и изменения значений лексических единиц. У экономических терминов до недавнего времени имелась форма только единственного числа без каких-либо признаков возникновения множественной формы. Бюджет в стране один. власть советская. сравните: стра те гия, пар тия, при ори-тет, ре фор ма .
«К настоящему времени заметный массив подобных слов перешел в иное числовое распределение... бюджет — согласно реальности и словоупотреблению современной эпохи стал весьма воспроизводимой речемыслительной единицей: бюджеты, субъекты рФ, местные бюджеты».
По наблюдению в. н. шапошникова, ключевые лексические единицы с легкостью образуют форму множественного числа, что является зеркальным отражением изменения сознания говорящего, и изменения достаточно значимого.
для 90-х годов прошлого столетия подобные грамматические сдвиги являются знаковыми. однако ошибочно было бы думать, что плюрализация существительных неконкретной семантики — целиком и полностью примета языка новейшего времени.
ошибочно было бы и полагать, что «плюрализация слов осуществляется за счет примыс-ливания вместо одного прежнего субъекта — некоторого множества возможных». данное явление — всего лишь одна из возможностей грамматико-числовых вариаций.
сравним несколько случаев употребления множественного числа у абстрактных существительных:
«Поэтому я хочу сказать вам — умам, честям и совестям: уйдите тихо» (в. тихомиров. цит. по в. П. изотов, 1999). в данном случае имеет место конкретизация контекста, в основе которой лежит аллюзия (в. маяковский «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» — «умы», «чести», «совести» = партийная номенклатура).
еще один пример — употребление множественного числа в другом формате:
«Правда, у ельцина был несколько иной “рабочий материал” — “властные и номенклатурные энергии”» (литературная газета, 2000, № 15).