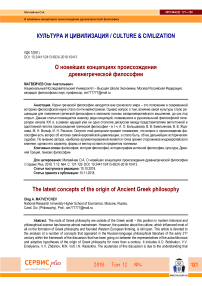О новейших концепциях происхождения древнегреческой философии
Автор: Матвейчев О.А.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 4 т.12, 2018 года.
Бесплатный доступ
Корни греческой философии находятся вне греческого мира – это положение в современной историко-философской науке стало почти мейнстримом. Однако вопрос о том, влияние какой культуры стало решающим для появления греческой философии и заложило основы западноевропейского мышления, до сих пор открыт. Данная статья посвящается анализу ряда концепций, появившихся в русскоязычной философской литературе начала XXI в. в рамках идущей уже не одно столетие дискуссии между представителями автохтонной и адоптивной гипотез происхождения греческой философии – в т.ч. А. О. Большакова, В. В. Емельянова, В. В. Жданова, М. Н. Вольф, И. Н. Рассохи. Остроте этой дискуссии придает понимание, что вопрос о происхождении философии есть вопрос об истоках самой европейской цивилизации, а стало быть, об ее дальнейших исторических судьбах. По мнению автора, наиболее аргументированной является точка зрения сторонников индоевропейского влияния, однако его характер, формы и вектор остаются предметом полемики.
Философия, история философии, историография античной философии, культура, Древняя Греция, генезис философии
Короткий адрес: https://sciup.org/140236970
IDR: 140236970 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10413
Текст научной статьи О новейших концепциях происхождения древнегреческой философии
Submitted: 2018/10/10.
Accepted: 2018/11/10.
Вопрос о том, как и где возникла философия, над которым ломались копья на протяжении веков, не теряет актуальности и в наши дни. В начале XXI в. в русскоязычной философской литературе появился целый ряд работ, укрепивших позиции сторонников т.н. адоптивной гипотезы происхождения древнегреческой философии. Согласно этой гипотезе, философия как особый тип мышления не является сугубо греческим явлением; в том или ином виде она обнаруживается в наследии более ранних цивилизаций, у которых она и была заимствована греками.
Две противоположные точки зрения на данную проблему сформировались еще в античности. Адоптивная гипотеза являлась преобладающей среди греческих мыслителей; к ней склонялись, в частности, Геродот, Исократ, Филипп Опунтский, Плутарх, Флавий Филострат, Ямвлих, убежденные, что восточная мудрость была воспринята ранними греческими философами во время их «философских путешествий» в Египет, Вавилонию, Персию, либо же занесена в Грецию выходцами из отдаленных земель. Представители греческой патристики – Климент Александрийский, Юстин Мученик, Татиан, Ориген и, ранее, иудейские апологеты – Ари-стобул, Филон Александрийский, в свою очередь, находили истоки эллинской мудрости в древних библейских текстах.
Представители автохтонной гипотезы, например, Эпикур и Диоген Лаэртский, напротив, искали источники философии в недрах собственной культуры, «ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов» [Диоген 1986: 55]. А по мысли Аристотеля, философия вообще не имеет четкого места и времени происхождения, поскольку одни и те же истины человечество может открывать многократно.
Проблемы генезиса философии, потерявшие актуальность в средние века с победой христианской идеологии, были поставлены – уже на новой основе – в эпоху Просвещения с ее пробуждающимся чувством истории. А в XIX в. на эту тему начались жаркие дискуссии, остроту которым придавало понимание, что вопрос о происхождении философии есть вопрос об истоках самой европейской цивилизации, а стало быть, об ее дальнейших исторических судьбах1. В первой половине столетия наиболее влиятельной и почти неоспоримой являлась ориенталистская гипотеза, приверженцы которой (Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер, А. Гла-диш, А. Рёт и др.) настаивали на том, что истоки эллинской науки и философии следует искать на Востоке. Гегель, убежденный, что именно с греческой философии и начинается философия в собственном смысле, напротив, призывал исключить восточную мысль из истории философии2. И уж совсем дерзко звучал голос его друга Гёльдерлина, утверждавшего, что только у эллинов и была подлинная философия, равно как подлинное искусство и религия [Гёльдерлин 1988].
Наиболее яростным критиком адоптивной гипотезы стал Э. Целлер, заявивший с предельной резкостью, что «греческая философия носит всецело национальный характер; в ней, и именно у ее древнейших представителей, не обнаруживается ни одно из явлений, которые в других случаях всегда встречаются, когда народ заимствует свое знание из-за границы: в ней нет никакой борьбы между местным и чужим, нет употребления непонятных формул, нет ни следа
-
1 Историографический и теоретический обзор основных концепций генезиса древнегреческой философии в западной историко-философской литературе XVIII-XX вв., см. [Матвейчев 2016a].
-
2 По отношению к восточной философии Гегель использовал эпитет «так называемая», указывая, что представляет она собой ни что иное, как «религиозный способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, которое очень легко можно принять за философию» [Гегель 1993: 160].
2018 Vol. 12 Iss. 4
несамостоятельного заимствования и подражания воспринятому» [Целлер 1996: 33].
Именно благодаря Целлеру гипотеза об ex oriente lux с середины XIX в. начала быстро терять своих сторонников, а в первой половине XX в. позиции сторонников автохтонной гипотезы укрепились авторитетом Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, горячо отстаивавших идею о самозарождении философии в Греции, понимаемом как «изначальный феномен духовной Европы» [Гуссерль 1995: 304], или, другими словами, об «исконно греческой сущности философии» [Хайдеггер 1993: 114]3. Факт отсутствия на Древнем Востоке сколько-либо зрелого философского мировоззрения фиксировали и узкие специалисты. Так, например, американский шумеролог С. Крамер заявлял со всей категоричностью, что «мыслители Шумера не создали четкого философского учения. Точно так же у них не было и достаточно ясной системы моральных принципов или заповедей» [Крамер 1965:126].
В то же самое время, однако, стали появляться отдельные работы, выражавшие иную точку зрения. В книге французского ученого, основателя философской компаративистики П. Массона-Урселя «Философия на Востоке», в частности, утверждалась, что древнегреческая философия испытала существенное влияние древнеегипетской и месопотамской мысли [Masson-Oursel 1938]. А после выхода в 1953 г. статьи У. Хёль-шера «Анаксимандр и истоки философии» [Hölscher 1953] к адоптивной гипотезе стала возвращаться былая популярность. Ее поддержали Дж. Кёрк и Дж. Рей-вен [Kirk, Raven 1957], У. Гатри [Guthrie 1962]. А после выхода работ М. Уэста [West 1971 и др.], В. Буркерта [Burkert 1982 и др.] и М. Бернала [Bernal 1987, 1991, 2006] позиции «ориенталистов» в западной истории философии и вовсе стали почти незыблемыми. В своем капитальном трехтомном труде с характерным названием «Черная Афина», вызвавшем ожесточенную полемику в западной историко-философской литературе, М. Бернал радикализировал адоптивную гипотезу генезиса греческой философии, полностью отказав той в наличии собственных автохтонных оснований и постулируя тотальную культурную зависимость Беотии и Пелопоннеса от Египта уже с конца III тыс. до н.э.4
Впрочем, к тому времени грекофилия как составная часть евроцентризма воспринималась в среде западных интеллектуалов уже чуть ли не как дурной тон - в моду входили идеи толерантности и мультикуль- турализма. Идея о самородности греческой философии и ее доктринальной чистоте, господствовавшая в философской историографии со времен Целлера, практически ушла из философского обихода, сохранившись в качестве рудимента лишь в некоторых учебниках компилятивного характера.
В советской историко-философской науке концепции возникновения философии подчинялись требованиям политической конъюнктуры. В связи с этим неудивительно, что в советской историко-философской науке вплоть до 1970-х гг. доминировала адоптивная («азиоцентристская», по выражению А. Н. Чанышева [Чанышев 1982: 5]) гипотеза. Это объяснялось политическим курсом советского партийного руководства на сближение со странами третьего мира. Весьма осторожные поначалу формулировки о «зачатках» философии на Древнем Востоке сменились вполне прямолинейными утверждениями о наличии в Древней Индии, Китае и даже в Египте, Вавилонии и Иране собственных развитых философских систем задолго до всяких греков. Евроцентризм, одним из элементов которого был тезис о первенстве греческой философии, отвергался как буржуазная, едва ли не расистская идеология, а по сути своей верное положение о закономерности единства мирового историко-философского процесса трактовалось в духе чуть ли не пролетарского интернацио-нализма5.
К сторонникам адоптивной теории, в частности, примыкал В. И. Вернадский, писавший в конце 1930-х гг.: «В последнее время ход истории науки заставляет нас менять представления о том доэллинском наследстве, на котором выросла эллинская наука… Мы должны придавать гораздо более реальное значение, чем это недавно делали, многочисленным указаниям древних ученых и писателей на то, что творцы эллинской науки и философии … исходили в своей творческой работе из достижений ученых и мыслителей Египта, Халдеи, арийских и неарийских цивилизаций востока» [Вернадский 1991: 65]. Свою позицию по проблеме восточных влияний зафиксировали и авторы академической «Истории философии» (1941-1943): влияние было, и значительное, поскольку «египтяне этой эпохи (VII-VI вв. - О.М.) обладали несравненно более широким культурным развитием, чем греки» [История философии 1941: 28]. Весьма авторитетным было мнение В.Ф. Асмуса, автора не только популярного учебника «История античной философии» (1965), но и
-
3 Это убеждение Хайдеггер сохранит даже после своего запоздалого знакомства с китайской и японской философией.
-
4 По убеждению Мартина Бернала, даже само греческое слово ooф^a происходит от египетского глагола себа («учить») [Bernal 2006:263].
-
5 Историографический и теоретический обзор основных концепций генезиса древнегреческой философии в русской и советской философской литературе XIX-XX вв. см. [Матвейчев 2016b].
СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2018 Том 12
основополагающей статьи «Древнегреческая философия» в Философской энциклопедии, где он отмечал: «Разработка истории философии и истории науки обществ Древнего Востока, особенно исследования последних десятилетий, доказали связь по происхождению древнегреческой философии с философией народов Африки и Передней Азии, которые раньше, чем греки, развили письменность, мифологию, элементы наук о природе и философии. Особенно значительно было влияние Вавилона, Египта, Лидии и Персии» [Асмус 1962: 65].
Однако в 1970-1980-х гг. в советской философской литературе четко обозначилась и прямо противоположная тенденция. Одним из сторонников автохтонной гипотезы являлся, например, Л. Я. Жмудь, утверждавший: «Общая готовность связывать зарождение греческой науки с передачей знаний с Востока кажется нам неоправданной, ибо по большей части она не опирается ни на достоверные исторические свидетельства, ни на конкретные факты из области математики и астрономии» [Жмудь 1985: 123]. В том, что восточные достижения в области науки и философии были совершенно неизвестны грекам вплоть до времен Александра Македонского, был уверен и И. Д. Рожанский [Рожанский 1979: 45, 50]. А Ф. Х. Кессиди пылко призывал не умножать сущности в поисках объяснения «темных» фрагментов древнегреческих философов в мифах и религиозных представлениях Древнего Востока, замечая: «Такая постановка вопроса напоминает, пожалуй, попытку решить одну неизвестную проблему с помощью другой» [Кессиди 1982: 99].
Угасшая было к последней трети прошлого столетия дискуссия об источниках между представителями автохтонной и адоптивной гипотез возобновилась в начале 2000-х гг. В наиболее общем виде вопрос, который решали диспутанты, можно сформулировать в виде: как и где возникла философия? Этот общий вопрос распадается на несколько более частных: 1) Могла ли греческая философия возникнуть без внешних влияний? 2) Свойственна ли ей доктринальная чистота? 3) Является ли она явлением, характерным только для Запада? (вопрос о пресловутом «греческом чуде») 4) Существовала ли вообще восточная философия?
Вопрос о существовании как минимум зачатков («эмбрионов», по выражению М. И. Шахновича) философии у цивилизаций Древнего Востока положительно решался в работах А. О. Большакова [Большаков 2001], В. В. Емельянова [Емельянов 2000, 2009], В. В. Жданова [Жданов 2006, 2012, 2016], посвященных исследо- ванию сущности и эволюции отдельных предфилософ-ских категорий и теокосмогонических концепций Древнего Египта и Шумера. Поскольку изучаемые категории относятся к III-II вв. до н.э., то результаты указанных работ, по мнению их авторов, позволяют «существенно расширить хронологические рамки существования форм предфилософской мысли, традиционно относящихся лишь к эпохе “осевого времени” К. Ясперса (800200 гг. до н.э.)» [Жданов 2016: 19].
Вместе с тем, авторы данных работ вполне отдают себе отчет, что предфилософия – это еще не философия, и необходимо выполнение ряда условий, чтобы она смогла трансформироваться в полноценный философский дискурс. Это случилось в Греции, Индии, Китае, однако в Египте и в странах Ближнего Востока линия развития предфилософии оказалась «тупиковой». То есть, если что и заимствовали греки у своих соседей, то лишь семена философии, а ее могучее древо смогло вырасти лишь в Элладе.
Чрезвычайная осторожность отличает и позицию М. Н. Вольф, исследующей пути и механизмы влияния на раннюю греческую философию предфилософ-ских концепций Древнего Ирана. Зафиксировав значительное количество иранских параллелей в орфизме (миф о Мировом яйце, учение о душе), греческих теогониях (рождение андрогина, миф о Золотом веке), у Эпименида, Гераклита (доктрина Логоса, концепция «Мудрого существа» как объективной мирообразующей сущности), Парменида и Ксенофана (представление о Едином) и т.д., Вольф, однако, отказалась спешить с выводами, ссылаясь, в т.ч., на недостаточное количество древних источников и значительный пласт общего индоевропейского происхождения, который мог обусловить появление похожих идей в разных культурах. Таким образом, Вольф вынуждена констатировать, что «анализ сопоставления воззрений ранней греческой философии и иранской традиции в их историкосоциокультурном контексте не дает четких и определенных результатов, на основании которых возможно однозначно признать иранские влияния на формирование и становление ранней греческой философии. Опровергнуть возможность таких влияний также не удалось» [Вольф 2003: 10].
Рассуждения и выводы И. Н. Рассохи, напротив, отличает исключительная смелость. Отвергая возможность т.н. «греческого чуда», «внезапного “взрыва из ничего”, качественного скачка без предварительного многовекового количественного накопления» [Рассоха 2015: 7], исследователь из Харькова утверждает, что «греческая философия сразу возникает в готовом виде
2018 Vol. 12 Iss. 4
именно потому, что была в готовом же виде позаимствована» [Рассоха 2009: 271], а именно – у финикийцев, выступающих не только родоначальниками философии, но и создателями самой матрицы западного общества.
По мнению Рассохи, в IX-VIII вв. до н.э. Финикия находилась в авангарде культурного развития всего человечества, творчески синтезировав духовные достижения цивилизаций бронзового века: Ханаана, Угарита, Эгейского мира, Вавилонии, Древнего Египта. Именно здесь был создан фонетический алфавит, появилась арифметика, были построены первые корабли современного типа, многоэтажные жилые дома и боевые машины, изобретен бетон. Высочайший уровень развитий технологий, по предположению Рассохи, даже позволил финикийцам совершить плавание в Америку за тысячелетия до Колумба. В Финикии задолго до Греции сложился полис как западный тип социально-политического устройства, и даже сформировались зачатки парламента. Все это позволяет, как считает ученый, сделать однозначный вывод: «в Финикии должна была быть великая культура, в т. ч. и философия» [Рассоха 2009: 69].
Для доказательства этого тезиса Рассоха прибегает к анализу греческих источников, упоминающих полулегендарных мыслителей Моха и Санхунйатона, а также библейских текстов, происхождение которых он также связывает с Финикией. Фрагментам Моха и Сан-хунйатона традиционно отказывают в философичности, а само их существование подвергается серьезному сомнению, однако Рассоха осуждает подобный «гиперкритицизм» и провозглашает единственно приемлемыми методологическими принципами при изучении истории принцип презумпции доверия к историческим источникам и принцип наибольшей полноты содержания, согласно которому самой правдоподобной следует считать самую содержательную из всех возможных версий [Рассоха 2009: 39-41].
Эта методология позволила Рассохе сделать большой шаг к реконструкции учений Моха и Сан-хунйатона, представив их как родоначальников натурфилософии как теоретической формы сознания, рационально обосновывающей свои принципы. «В частности, Мох впервые в мире выдвинул теорию атомов, ставшую фундаментом современного естествознания. Можно предположить, что это был “числовой” атомизм, подобный пифагорейскому. Санхунйатон был первым в мире ученым, рассматривавшим развитие материи во Вселенной как естественную эволюцию. Он впервые выдвинул рациональную теорию возникновения религии и по праву должен считаться основателем социаль- ной философии» [Рассоха 2009: 27]. При этом философия в Финикии была и впервые институциализирована – была создана целая система высшего образования, обеспечивающая преемственность философских учений.
В результате активной колонизации финикийцами в IX-VIII вв. до н.э. ряда районов Греции, - продолжает Рассоха, - их передовая культура вместе с письменностью была перенесена на греческую почву. Уже в готовом виде философские системы финикийских мыслителей дошли до нас в изложении Лина, Ферекида, Фалеса и Пифагора. И уже их ученики продолжили самостоятельный творческий поиск, создав греческую философскую традицию. Таким образом, согласно Рассохе, следует говорить о «вторичном характере» [Рассоха 2015: 282] ранней греческой философии, представляющей собой не что иное, как «перевод с финикийского» [Рассоха 2009: 133]. Истинной же «родиной» философии и духовного Запада в целом нужно считать Финикию.
Несмотря на некоторую экстравагантность и без-аппеляционность суждений Рассохи, следует признать, что сама постановка вопроса о финикийском влиянии на греческую культуру и философию правомерна. Другой вопрос – насколько сильным было это влияние и, тем более, было ли оно решающим? Оставим за скобками вопрос о том, можно ли говорить о самом существовании финикийской философии (методологические принципы, используемые Рассохой, позволяют делать вообще любые выводы; сам Рассоха, например, доказывает с их помощью аутентичность «Велесовой книги» [Рассоха 2018], а также тезис о том, что легендарная Гиперборея находилась… в центральных районах Левобережной Украины [Рассоха 2007: 287-296]). Обратимся к более верифицируемым аргументам.
Присутствие финикийцев в отдельных районах греческого мира доказывается рядом археологических находок – бронзовой чашей с финикийской надписью, найденной в одной из толосных могил Ханиале Текке в районе Кносса; ювелирными украшениями сиро-финикийского типа, в значительном количестве находимых в Аттике; сиро-финикийскими изделиями из слоновой кости, обнаруженными на Фасосе и в Фивах, и др.. Однако все эти находки датируются X-VIII вв. до н.э., максимум – позднемикенским периодом (XI в. до н.э.) [Яйленко 1990: 132-135]. То есть, к тому времени, когда Греция уж испытала куда более существенное влияние индоевропейской культуры. Так, язык, на котором разговаривали древние греки микенского периода, относится к индоевропейской группе. Наиболее ранние документы на этом языке, написанные линейным письмом В, дати-
СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2018 Том 12
руются XIV в. до н.э.6, но разговаривали на нем, безусловно, и раньше. Природа догреческого (доиндоев-ропейского) субстрата до сих является предметом яростной полемики, однако уже практически не вызывает споров, что с семитскими языками, к которым относится, в частности, финикийский, он не имел почти ничего общего [Откупщиков 1988: 13]. Необходимо отметить, что язык – это не просто слова, но и определенный способ постижения мира, а стало быть уже на уровне языка семитская мировоззренческая матрица была чужда грекам, а стало быть прямое, механическое перенесение на греческую почву протофилософ-ских концептов финикийцев вряд ли могло быть возможным.
Индоевропейскому ареалу принадлежит и греческая религия и космогония7. Так, очевидно индоевропейское происхождение имеет верховный бог в греческом пантеоне – Зевс, Ζεύς (в род. падеже – Διός). Его имя происходит от праиндоевропейского корня *diēu-, имевшего значение «сиять, сверкать», «небо, день». К тому же корню возводятся греческие δ ῖ ος («божественный», «блистательный», «лучезарный»), ευδία («хорошая погода»), латинское dies («день»), латинское же наименование Зевса Diespiter-Juppiter, а также имя древнеиндийского бога Dyaus, иллирийского Δειπάτυρος, древнегерманского Ziu, древнеисландского Týr. От того же корня образовано слово, означающее «светлых», небесных богов – на санскрите devah, по-латыни dues, по-гречески θεός [Зайцев 2005: 72; Бур-керт 2004: 35, 225].
Несмотря на известное и совершенно объяснимое в силу географической близости взаимовлияние финикийской и греческой религий, между ними существует ряд принципиальных концептуальных различий. Так, греком было совершенно чужд и непонятен финикийский обряд «погребения божества», поскольку для греков боги бессмертны.
Что касается возможного влияния финикийской мысли на Грецию периода архаики и ранней классики, то даже чисто статистически можно доказать, что влияние малоазиатских и «северных» культур было гораздо сильнее. Так, в списочном составе ста наиболее известных и влиятельных философов Древней Греции начиная с IX в. до н.э. и заканчивая «веком Перикла» заметно преобладают мыслители малоазийского происхождения (55%), по 3% философов представляют негреческие государства и территории Малой Азии, уроженцы Крита и Кипра, а также территории негреческого северо-востока. При этом вектор распространения философской мысли и «культурной колонизации» был направлен с Малой Азии, восточного Средиземноморья и «севера» на запад, в «материковую» Грецию [Матвейчев 2015a: 44-62]. Заметим, что два фигуранта списка – Фалес и Пифагор - упоминаются в списке в качестве представителей Малоазийской Греции, несмотря на то, что по свидетельствам Геродота и Ямвлиха соответственно они имеют финикийское происхождение. Однако к резидентам финикийской культуры их можно отнести разве что с большой натяжкой. В любом случае, в общем статистическом массиве они не делают погоды, составляя лишь два процента от списка.
Корни греческой философии находятся вне греческого мира – это положение в современной историкофилософской литературе стало почти мейнстримом. Однако вопрос о том, влияние какой культуры стало решающим для появления греческой философии и заложило основы западноевропейского мышления, до сих пор открыт. Наиболее аргументированной является точка зрения сторонников индоевропейского влияния, однако его характер, формы и вектор остаются вопросами ученых дискуссий, в результате которых постепенно отсекаются и отмирают многие пусть и красивые, но научно несостоятельные и нередко политически ангажированные концепции. На наш взгляд, преимущественным направлением исследований должен стать северный вектор индоевропейского влияния на греческую культуру, однако доказательство этого тезиса выходит за пределы круга задач данной статьи и станет предметом отдельной работы.