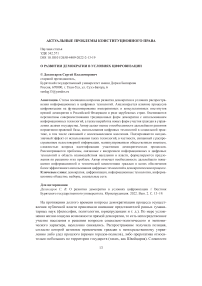О развитии демократии в условиях цифровизации
Автор: Дагангаров Сергей Владимирович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные проблемы конституционного права
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам развития демократии в условиях распространения информационных и цифровых технологий. Анализируется влияние процессов цифровизации на функционирование императивных и консультативных институтов прямой демократии в Российской Федерации и ряде зарубежных стран. Оцениваются перспективы совершенствования традиционных форм демократии с использованием информационных технологий, а также выработка новых форм участия граждан в управлении делами государства. Автор делает вывод о необходимости дальнейшего развития нормативно-правовой базы, использования цифровых технологий в социальной практике, в том числе связанной с волеизъявлением населения. Подчеркивается неоднозначный эффект от использования таких технологий, в частности, связанный с распространением недостоверной информации, манипулированием общественным мнением, сложностью вопроса идентификации участников демократических процессов. Рассматриваются проблемы, связанные с внедрением информационных и цифровых технологий в область взаимодействия населения и власти, формулируются предложения по решению этих проблем. Автор отмечает необходимость дальнейшего повышения информационной и технической компетенции граждан в целях обеспечения более эффективного использования цифровых технологий в демократическом процессе.
Демократия, цифровизация, информационные технологии, информационное общество, выборы, социальные сети
Короткий адрес: https://sciup.org/148325474
IDR: 148325474 | УДК: 342.571 | DOI: 10.18101/2658-4409-2022-2-13-19
Текст научной статьи О развитии демократии в условиях цифровизации
Дагангаров С. В. О развитии демократии в условиях цифровизации // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2022. Вып. 2. С. 13–19.
На протяжении долгого времени вопросы демократизации процесса осуществления публичной власти привлекали внимание представителей разных гуманитарных наук (философии, политологии, юриспруденции и т. д.). По мере усложнения жизни социума возможности прямой демократии, то есть непосредственное участие населения в решении вопросов социально-политического и экономического характера, неуклонно снижались. Распространение получила позиция, согласно которой активное привлечение граждан к непосредственному управлению либо удел прошлого (времен городов-полисов), либо прерогатива относительно небольших по территории государств (таких, как Швейцария). Сложности технологического характера не позволяли оперативно выявить мнение большого количества граждан и выработать на его основе какое-либо решение, прямая демократия стала использоваться лишь периодически, преимущественно в рамках избирательного процесса, уступив место демократии представительной.
Однако к концу XX — началу XXI в. активное развитие информационных технологий и их внедрение в различные сферы социальной жизни обусловили переход общества к качественно новой информационной (постиндустриальной) стадии развития, что не могло не сказаться и на процессах политического развития и его юридического оформления. В этих условиях, как отмечается в юридической науке, «преломляются действие и образ многих социальных институтов и регуляторов, в том числе права. Оно становится не только средством, инструментом, обеспечивающим внедрение цифровых технологий и их использование в различных сферах общественной жизни – экономике, управлении и других сегментах социального бытия, но и объектом воздействия цифровизации» [5, с. 95].
Новые технологии создали предпосылки для формирования новых механизмов привлечения граждан к управлению делами общества и государства. Речь может идти при этом как о совершенствовании технологических условий реализации традиционных институтов демократии, так и о выработке новых форм участия людей в решении общественно-политических и иных значимых вопросов. Использование цифровых технологий позволяет частично решить те проблемы, которые, как показала практика последних десятилетий, сопровождают действие институтов прямой демократии. К их числу относятся абсентеизм на выборах и референдумах, ставящий под сомнение легитимность их результатов; существование риска искажения воли граждан, выраженной в результате прямого голосования, под воздействием органов публичной власти и иных заинтересованных лиц; слабый контроль со стороны институтов гражданского общества за реализацией демократических процедур; сложные условия для участия в выборах и референдумах граждан, проживающих на отдаленных и труднодоступных территориях. Помимо собственно выборов и референдумов, относимых в науке конституционного права к императивным формам прямой демократии, по результатам которых принимаются обязательные для власти решения, особой проблемой становится недостаточный учет, в том числе в силу слабого охвата, мнения граждан, высказанного в ходе опросов, публичных слушаний и других консультативных ее форм. Все это снижает уровень доверия к власти со стороны населения, создает угрозу ее легитимности.
Внедрение информационных технологий в практику реализации демократических процедур является одним из способов решения перечисленных выше проблем. Особое значение информационно-технологическое сопровождение государственного управления и участия в нем граждан получило в последние годы в связи с распространением COVID-19, когда дистанционные формы взаимодействия во всех сферах общественной жизни вышли на первый план.
На сегодняшний день в научной среде и, отчасти, в практике государственного управления получили распространение различные формы использования информационных технологий. К ним относятся программы «Электронная демократия»,
«Электронное правительство», «Открытое правительство», «Электронный парламент», «Электронное правосудие» и др. [3, с. 48].
Понятие «электронная демократия», подразумевающее в самом общем виде использование электронных технологий связи (таких как Интернет) для улучшения качества демократических процессов, получило широкое распространение в науке конституционного права. Следует отметить, что не все ученые-конституционалисты однозначно принимают эту концепцию, особенно в условиях отсутствия общепризнанного ее определения, закрепленного нормативно [3, с. 48]. На уровне государственной политики идея электронной демократии получает более явную поддержку в качестве перспективного направления развития. Так, о ней сказано в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Дальнейшее внедрение информационных технологий и инструментов электронной демократии рассматривается в нем как одно из основных условий повышения эффективности государственного управления в экономической и социальной сфере, области взаимодействия граждан и государства.
В области реализации императивных форм прямой демократии в России развитие информационных технологий позволило внедрить в политическую практику такие элементы электронной демократии, как электронное голосование в помещении для голосования (электронное стационарное голосование); электронное голосование вне помещения для голосования (дистанционное электронное голосование); организация видеонаблюдения за проведением выборов посредством трансляции в сети Интернет. Следует отметить, что эта практика получила широкое распространение не только в России. Так, в Индии муниципальные выборы и выборы в штатах практически полностью проводятся с использованием специальных машин для электронного голосования. В Бразилии такая практика повсеместно используется с 2000 г. на выборах всех уровней. Дистанционное голосование в зарубежной практике (в частности, в Швейцарии) также подтвердило свою эффективность в решении проблемы избирательного абсентеизма [3, с. 51].
В области консультативных форм прямой демократии информационные технологии также способны внести свою немалую лепту в обеспечение обратной связи между населением и властью. В Российской Федерации это проявилось, в частности, в создании специального сервиса «Российская общественная инициатива», действующего с 2013 г. и ставшего открытой площадкой для обсуждения предложений по актуальным общественным проблемам. Существенную роль для повышения степени вовлеченности граждан в процессы управления играют электронные платформы, позволяющие проводить общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов. Так, официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения содержит практически все планируемые к принятию проекты нормативных правовых актов органов государственной власти.
Особое место в процессах информатизации демократических процедур играют социальные сети, мессенджеры и иные мобильные информационные технологии.
Они позволяют оперативно выявить позицию значительного числа граждан, аккумулировать их протест (или поддержку) в отношении тех или иных решений и действий органов публичной власти. Конечно, такие проявления цифровизации, обладая серьезным потенциалов в части влияния на массовое поведение, могут иметь неоднозначные последствия. В рамках так называемой «Арабской весны» социальные сети сыграли ведущую роль в организации акций гражданского сопротивления, распространения информации о фактах коррупции со стороны представителей власти, репрессивной политики в отношении активистов. Онлайн-плат-формы позволили координировать революционные процессы внутри страны, а также обеспечить им международную поддержку. Конечно, в данных регионах в силу сложных материальных условий протестные настроения были и раньше, однако до распространения интернета и социальных сетей отсутствовали технологические возможности для координации действий революционно настроенных активистов, находящихся в разных частях страны. При этом, как отмечает В. В. Чуксина, «хотя «Арабская весна» привела в некоторых странах к смене правящих режимов, росту общественного спроса на демократические реформы... кардинального роста уровня свобод, улучшения социально-экономической ситуации не произошло» [6, с. 263]. В ряде стран (Ливия, Ирак, Йемен) фактически произошел возврат к традиционным (племенным) структурам как основным формам политической самоорганизации либо начались процессы религиозной радикализации. В этих условиях конце 2020 — начале 2021 г. в Российской Федерации были внесены изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающие закрепление понятия «социальная сеть» и создание специального реестра таких сетей для контроля за соблюдением ими российского законодательства.
Таким образом, внедрение информационных технологий в общественнополитическую практику не только приводит к обеспечению более эффективной обратной связи между населением и властью, но и порождает ряд проблем, не все из которых являются сугубо техническими.
Во-первых, необходимо создание системы контроля за злоупотреблениями в области информационного пространства, способствующего быстрому распространению любых, в том числе деструктивных, идей и недостоверной информации. Эта проблема имеет место не только в развивающихся странах, но и в государствах с устоявшейся демократической системой власти. Например, в докладе комитета Палаты общин парламента Великобритании за 2018 г. «Дискриминация и «фейковые новости» указывалось, что граждане с трудом отличают недостоверные новости от реальных, что представляет собой угрозу для демократии. В докладе содержится призыв к ужесточению ответственности за подобные нарушения, а также к изменению избирательного законодательства с учетом возможностей по сознательной манипуляции общественным мнением [1, с. 55]. В Российской Федерации законодательно ужесточена ответственность за распространение недостоверной информации (так называемый «закон о фейках»), что, с одной стороны, должно уменьшить количество подобного контента, а с другой — актуализирует новые проблемы, связанные с реализацией конституционных прав на свободу слова и информации.
В-вторых, информационные технологии, используемые при дистанционном волеизъявлении граждан, имеют объективные «слабые» стороны, позволяющие исказить мнение избирателей или участников референдума посредством хакерской атаки или иного технического воздействия. Особую опасность представляет возможность такого воздействия со стороны органов власти или лиц, занимающихся организацией выборов или референдума, так как это чрезвычайно затруднит выявление самого факта подобного искажения мнения населения. Следует согласиться с О. Ф. Волочаевой в том, что «как любая другая технология, Интернет подвластен тем, кто его применяет. Поэтому ситуация воздействия Интернета на политику должна находиться в поле зрения научного осмысления» [2, с. 55]. В последние годы распространение получила и идея о возможности технического вмешательства в выборные процедуры со стороны других государств. Решение этих вопросов предполагает максимальную прозрачность избирательных технологий, внедрение новых форм общественного контроля, в том числе и за технической составляющей выборного процесса. В мировом масштабе необходима координация усилий демократических стран по выработке совместных механизмов защиты от внешнего воздействия, разработка и подписание соответствующих международных соглашений с указанием конкретных форм контроля и ответственности в сфере кибербезопасности.
В-третьих, особое внимание привлекает проблема идентификации граждан, использующих онлайн-площадки для участия в решении каких-либо значимых вопросов. С одной стороны, такая идентификация необходима, чтобы подтвердить личность гражданина и его право участвовать в этой процедуре, избежать массового создания ложных аккаунтов, искажающих реальное волеизъявление граждан. С другой стороны, наиболее значимые формы прямой демократии (выборы и референдум) предполагают принцип тайного голосования, защищающий граждан от какого-либо внешнего давления. Решение этой проблемы требует определение баланса между разными конституционно значимыми ценностями и принципами, индивидуальный подход при разработке нормативных требований к технической реализации каждой формы демократии, учитывающий ее первостепенную цель.
И конечно, отдельной проблемой для нашей страны является низкий уровень информационной и технической компетенции многих граждан. Особенно явно это проявляется в тех многочисленных местностях, где существуют проблемы с обеспечением жителей качественным интернетом. В этой связи государству необходимо в первую очередь обеспечить условия для технического доступа к сети всех граждан, не допустив «цифрового неравенства», при котором волеизъявление населения будет исходить только от жителей мегаполисов и других крупных городов. Во-вторых, требуется проведение целенаправленной политики по повышению информационной грамотности граждан, разъяснению порядка и форм их участия в демократических процедурах с использованием информационных технологий. Как верно отметил Б. Барбер: «развитие современных информационных и коммуникационных технологий осуществляется по так называемому "сценарию Джефферсона", предполагающему, что прямое участие граждан в осуществлении власти возможно только тогда, когда граждане хорошо информированы, а информация свободна» [4, с. 88].
Таким образом, внедрение информационных технологий в общественно-политическую практику позволяет качественно видоизменить уже известные формы демократического волеизъявления граждан, а также выработать новые инструменты взаимодействия населения и власти, что в конечном счете призвано повысить эффективность функционирования последней. Процессы цифровизации и информатизации социальной жизни при этом несут определенные риски, противодействие которым требует дальнейшего развития законодательного регулирования в данной сфере.
Список литературы О развитии демократии в условиях цифровизации
- Алимов Э. В., Помазанский А. Е. Делиберативная демократия: новые вызовы и возможности в условиях развития информационного общества // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. № 4(83). С. 47-66. Текст: непосредственный.
- Волочаева О. Ф. Активность акторов политики в информационном обществе: практики и тенденции развития // Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2020. № 5(74). С. 54-57. Текст: непосредственный.
- Григорьев А. В. Реализация конституционного права граждан на управление делами государства в условиях цифровизации // Журнал российского права. 2020. № 2. С. 45-57. Текст: непосредственный.
- Руденко В. Н. Прямая демократия: модели правления, конституционно-правовые институты. Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2003. 476 с. Текст: непосредственный.
- Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85-102. Текст: непосредственный.
- Чуксина В. В. "Цифровизация" демократии в нормативно-правовом измерении // Право и государство: теория и практика. 2022. № 1(205). С. 262-264. Текст: непосредственный.