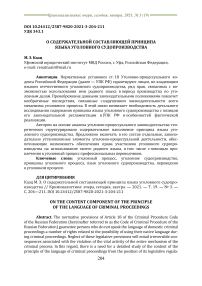О содержательной составляющей принципа языка уголовного судопроизводства
Автор: Каац М.Э.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 3 (19), 2021 года.
Бесплатный доступ
Нормативные установки ст. 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) гарантируют лицам, не владеющим языком отечественного уголовного судопроизводства, ряд прав, связанных с возможностью использования ими родного языка в период производства по уголовным делам. Пренебрежение данными законодательными положениями повлечет необратимые последствия, связанные с нарушением жизнедеятельности всего механизма уголовного процесса. В этой связи возникает необходимость детального исследования содержания принципа языка уголовного судопроизводства с позиции его законодательной регламентации в УПК РФ и особенностей фактической реализации. Автором на основе анализа уголовно-процессуального законодательства теоретически структурировано содержательное наполнение принципа языка уголовного судопроизводства. Предложено включать в его состав отдельные, законодательно установленные элементы уголовно-процессуальной деятельности, обеспечивающие возможность обеспечения права участников уголовного судопроизводства на использование своего родного языка, в том числе с помощью привлечения в уголовный процесс профессиональных переводчиков.
Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, принципы уголовного процесса, язык уголовного судопроизводства, переводчик в уголовном процессе
Короткий адрес: https://sciup.org/143177991
IDR: 143177991 | УДК: 343.1 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-3-204-211
Текст научной статьи О содержательной составляющей принципа языка уголовного судопроизводства
В Российской Федерации каждый имеет право использовать свой родной язык, что гарантировано в положениях ст. 26 Конституции Российской Федерации (далее — Конституция России). Однако добиться того же самого в процессе реализации общественных отношений не представляется возможным, в связи с чем общество использует государственный язык. Это касается различных общественных отношений, в том числе и уголовно-процессуальных. В то же время лицам, не обладающим соответствующими знаниями используемого в уголовнопроцессуальных отношениях языка, гарантирован механизм использования переводчика. В этой связи в уголовно-процессуальных правоотношениях принцип языка является одним из основных принципов, который призван гарантировать гражданам, не владеющим языком уголовного судопроизводства, весь спектр принадлежащих им прав в соответствии с УПК РФ [1, с. 306—308].
Система принципов уголовного процесса имеет сложную структуру, в которой взаимодействуют относительно самостоятельные элементы. Среди таких самостоятельных элементов необходимо рассматривать принцип языка уголовного процесса. Для более глубокого понимания данного принципа следует рассмотреть подходы к пониманию самого термина «язык».
Исследование различной научной литературы показало, что рассматриваемый термин употребляется в разных значениях. Во-первых, необходимо вести речь о термине «государственный язык». Указанный термин употребляется в Конституции России, большинстве нормативных правовых актах, включая те, которые регламентируют порядок отдельных судопроизводств, будь то уголовное, гражданское или административное. В юридической литературе термин государственного языка ассоциируется с необходимой составляющей государственности. Государственный язык используется для осуществления основных полномочий, которые возложены на государственные органы управления, в том числе для составления нормативных правовых актов, а также осуществления необходимых государственных процедур. Следующим термином, который относится к вопросам понимания понятия принципа языка уголовного судопроизводства, является термин «официальный язык Российской Федерации». Анализ различных подходов к пониманию указанного термина позволяет заключить, что официальный язык Российской Федерации является необходимым инструментом, который позволяет осуществлять коммуникацию в рамках различных сфер деятельности. Вместе с тем в Российской Федерации сложно уловить грань различия официального и государственного языка, хотя в других странах такая грань прослеживается, как, например, в Швейцарии [2, с. 45—56]. Возможно, это связано с тем, что на территории Швейцарской Конфедерации существует сразу несколько государственных языков, среди которых немецкий, французский и др. Кроме того, следует упомянуть и о термине «государственный язык субъекта Российской Федерации». Российская Федерация является многонациональным государством, и существование указанного термина это подчеркивает. Более того, в различных нормативных правовых актах, регламентирующих процедуры судопроизводства, например, уголовного, предусматривается возможность ведения дела на языке субъекта Российской Федерации (далее — субъект федерации).
Следует заметить, что имеющаяся в УПК РФ возможность ведения уголовного судопроизводства на языке субъекта федерации является дискуссионной и сложно реализуемой, т. к. будет способствовать формированию разноплановости уголовного процесса. Некоторые авторы утверждают, что необходимо исключить из положений УПК РФ возможность осуществления производства на национальных языках республик, включенных в ее состав. Указывается, что это никоим образом не ограничит право отдельных категорий субъектов реализовать свое право участия в процессе с использованием родного языка [3, с. 236]. По мнению автора настоящей статьи, реализация таких изменений требует детальной проработки.
Кроме того, следует упомянуть и иные термины, которые так или иначе связаны с исследуемой проблематикой, среди которых «язык межнационального общения», «титульный язык», а также «язык судопроизводства». Последний названный термин применяется как тот язык, с помощью или на котором преимущественно или всегда осуществляется тот или иной вид судопроизводства.
Исследование вышеназванных терминов позволяет отметить, что принцип языка уголовного судопроизводства базируется на их содержательной составляющей, что позволяет законодательно закрепить тот язык, на котором должно осуществляться такое производство.
Некоторые исследователи отмечают, что принцип языка уголовного судопроизводства необходимо отождествлять с некой основой, которая формирует базис, функцией которого является должное осуществление возложенных на специализированные органы судопроизводства своих полномочий, в случае уголовного судопроизводства это должное осуществление полномочий, связанных с достижением целей уголовного процесса, а также правосудия в целом. Отмечается, что без такой основы, а именно без правил языкового общения, достижение вышеуказанных целей является невозможным [1, с. 308]. При этом решение вопросов, возникающих при участии в процессе субъектов, которые не обладают должными знаниями правил такого языкового общения, должно осуществляться с помощью определенных инструментов, а именно привлечения переводчика, что, в свою очередь, будет также способствовать обеспечению иных прав указанных лиц.
Отдельные авторы отмечают, что принцип языка уголовного судопроизводства есть не что иное, как проецирование конституционных положений, связанных с государственным языком, на ведение уголовного судопроизводства, что должно являться определяющим правилом. В случае наличия субъектов, не имеющих возможности должным образом реализовывать свои права с помощью того языка, который является государственным, должна быть предусмотрена возможность исключения [4, с. 100].
Следует согласиться с точкой зрения Ф. М. Кудина и А. А. Тушева, определивших рассматриваемый принцип как определенное требование, которое закреплено нормативно и проецирует собой наличие судопроизводственного суверенитета. Необходимость нормативного фиксирования связано с тем, что обязывает органы судопроизводства следовать указанным правилам [5, с. 1675].
Важным в рамках понимания принципа языка уголовного судопроизводства является то, что указанное нормативное правило использования в рамках судопроизводства государственного языка никоим образом не ущемляет права субъектов, не могущих в силу его незнания осуществить реализацию своих прав в рамках указанного производства. Такое правило не запрещает указанным субъектам использовать в рамках производства свой родной язык или язык, необходимый им для реализации таких прав. Вместе с тем указанные обстоятельства нивелируются привлечением в процесс судопроизводства специализированного субъекта, т. е. квалифицированного переводчика. Таким образом, необходимо вести речь о закреплении в положениях о принципе языка уголовного судопроизводства, отдельного естественного права каждого субъекта пользоваться в рамках производства тем языком, который он сочтет необходимым.
Рассматриваемый принцип уголовного судопроизводства вобрал в себя основные составляющие государственного устройства Российской Федерации, что прослеживается в его положениях. Положения рассматриваемого принципа гарантируют национальное и языковое равноправие всех субъектов, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, а также устанавливают возможность свободного выбора языка, более понятного им или удобного для общения с должностными лицами органов уголовного судопроизводства на всех его стадиях.
В структуре изучения любого принципа, в том числе принципов уголовного судопроизводства, несомненную важность имеет уяснение содержательного значения, которое кроется в непосредственной структуре, регламентирующей его нормы.
Принцип языка уголовного судопроизводства закреплен в положениях ст. 18 УПК РФ, которая, в свою очередь, базируется в структуре гл. 2 УПК РФ. Без сомнения, положения ст. 18 УПК РФ являются специальными по отношению к конституционным положениям, регламентированным положениями ст.ст. 19, 26, 29, 68 Конституции России. Необходимо отметить, что Конституция России предусматривает для граждан довольно широкий перечень прав и запретов, связанных с языковой составляющей. Так, её положениями гарантируется равенство прав граждан независимо от языка, закрепляется запрет ограничения любых прав по языковой принадлежности, гарантируется право на выбор языка, а также сво- бодного его использования в процессе жизнедеятельности, запрещается пропаганда языкового превосходства, гарантируется право на сохранение родного языка и др.
Содержательная структура нормы, закрепляющей принцип языка в уголовном судопроизводстве, сводится к следующим элементам. Так, в ч. 1 ст. 18 УПК РФ установлено, что уголовное судопроизводство осуществляется на русском языке. При этом закон допускает исключение из этого правила для республик Российской Федерации, допуская возможным использования на их территории республиканского государственного языка для осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Данная норма не распространяется на ведение производства по уголовным делам в Верховном суде Российской Федерации, кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, а также военных судах, где судопроизводство должно осуществляться исключительно на государственном языке Российской Федерации — русском. В ч. 2 ст. 18 УПК РФ закрепляются положения, являющиеся своего рода инструментом, нивелирующим возможные нарушения прав участников уголовного судопроизводства, связанные с языковой составляющей. Так, положениями УПК РФ предусматривается обязанность органов и их должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство по разъяснению и обеспечению права субъектов, не владеющих языком судопроизводства, производить различные действия на том языке, которым они владеют. В рамках реализации такого права должен принимать участие переводчик, предоставляемый на бесплатной основе. В ч. 3 ст. 18 УПК РФ предусматривается обязанность органов уголовного судопроизводства, связанная с переводом необходимых процессуальных документов, которые вручаются лицу, не обладающему знаниями языка уголовного судопроизводства [6, с. 530].
В связи с изложенным необходимо структурировать элементы содержательного наполнения принципа языка уголовного судопроизводства на основе положений ст. 18 УПК РФ, а также иных положений уголовно-процессуального законодательства и Конституции России. Среди таких элементов необходимо рассматривать: требование обязательности ведения уголовного судопроизводства на русском языке либо на языках республик, включенных в состав Российской Федерации (ч. 1 ст. 18 УПК РФ); необходимость четкого и обязательного разъяснения всем субъектам уголовного процесса, не владеющим либо владеющим в недостаточной степени русским языком, права осуществлять различные действия, среди которых процедура дачи объяснений, подачи заявлений, заявления ходатайств, а также привнесения жалоб, ознакомления с материалами дела, на родном языке, либо на том, которым они владеют в достаточной степени (ч. 2 ст. 18 УПК РФ); необходимость обязательного обеспечения всех субъектов уголовного процесса, которые не владеют либо владеют в недостаточной степени русским языком, бесплатными услугами квалифицированного переводчика (ч. 2 ст. 18 УПК РФ) (указанное требование касается всех стадий уголовного судопроизводства); обязательность вручения переведенных процессуальных документов субъектам уголовного процесса, которые не владеют либо владеют в недостаточной степени русским языком (ч. 3 ст. 18 УПК РФ); обязательность перевода приговора суда и обеспечения синхронности его провозглашения на том языке, который является родным для подсудимого либо которым он владеет в достаточной степени (ч. 2 ст. 310 УПК РФ).
Обозначенную содержательную структуру нормы, закрепляющей принцип языка уголовного судопроизводства, нельзя назвать соответствующей всем необходимым критериям сегодняшних реалий. Это подтверждается и достаточным количеством научных исследований, в которых поднимаются вопросы её содержательного наполнения.
В достаточно большом количестве уголовно-процессуальных исследований отмечается, что содержательное наполнение ч. 2 ст. 18 УПК РФ не может быть сопоставимо с теми гарантиями, которые предоставляются конституционными положениями. Так, Я. В. Жданова отмечает, что указанные положения ограничивают в правах лиц, обладающих знаниями русского языка, но в то же время желающих реализовать право пользоваться в рамках уголовного судопроизводства родным языком [7, с. 77]. Отметим, что в практике существует достаточное количество примеров, когда лица, обладающие знаниями русского языка, ходатайствуют о привлечении к процессу переводчика в целях пользования своим родным языком. Указанные примеры существуют, обычно, на территории отдельных республик Российской Федерации. Однако такие ходатайства отклоняются с мотивировкой о злоупотреблении конституционными и уголовно-процессуальными положениями. Указанная проблема неоднократно рассматривалась и Конституционным Судом Российской Федерации, однако в рамках его решений фигурировало лишь то, что существует необходимость индивидуального подхода к рассмотрению указанных ходатайств, что возложено на следователя, дознавателя, либо суд, рассматривающий уголовное дело1.
Таким образом, содержание рассматриваемой нормы уголовно-процессуального законодательства указывает на то, что только лишь невладение, либо недостаточное владение русским языком позволяет лицу воспользоваться указанным правом. Более того, ни положения уголовно-процессуального законодательства, ни разъяснения высших судебных органов не раскрывают содержания того, что необходимо подразумевать под невладением, либо недостаточным владением русским языком.
Следующей проблемой, освещающейся в научных исследованиях, является проблема, связанная с реализацией иных прав участников уголовного судопроизводства в соотношении с принципом языка уголовного судопроизводства [8, с. 17]. Так, например, заслуживают внимания отдельные положения УПК РФ, которые закрепляют некоторые права подозреваемого. В частности, в положениях ч. 1 ст. 96 УПК РФ закреплено право подозреваемого на один телефонный разговор. Указанное право подозреваемого должно быть реализовано в течение трех часов. Более того, законодатель четко регламентировал в указанном положении, что такое право должно быть реализовано на русском языке. Отметим, что ни о каком привлечении переводчика в случае невладения или недостаточного владения подозреваемым русским языком речь не идет. Не входит ли в противоречие указанная норма с принципом языка уголовного судопроизводства? По формальным основаниям, думается, входит. Поэтому в юридической литературе высказывается мнение о необходимости внесения изменений в ст. 96 УПК РФ с указанием в ней обязательного участия переводчика при реализации права на телефонный разговор подозреваемого, не владеющего русским языком [9, с. 17]. Однако возникает другой вопрос: возможно ли будет реально обеспечить правоприменителям привлечение переводчика в установленный трехчасовой временной период? 95 % опрошенных нами сотрудников органов предварительного расследования ответили на него отрицательно. Особенно затруднительным видится реализация данного положения в сельской местности. Так, по уголовному делу № 120***874 обвиняемый гражданин Республики Азербайджан Р. подал ходатайство о предоставлении ему переводчика в связи с невладением русским языком. Следователь ходатайство удовлетворил, однако фактическая его реализация была осуществлена на десятые сутки, в связи с поиском переводчика с азербайджанского языка1.
Выходом из положения видится создание института судебного (присяжного) переводчика. Отметим, что указанная практика существовала во времена Российской империи [9, с. 104] и раннего СССР [9, с. 107]. Имеется она и в нынешнее время в рамках уголовного судопроизводства отдельных стран (Эстонии, Польши, США и др.). С 2015 года на базе Нижегородского регионального отделения Союза переводчиков России ведется работа по созданию и законодательному утверждению Положения о судебном переводчике в России2. Внедрение указанного Положения в практику деятельности органов уголовной юстиции России позволило бы дать ответы на целый комплекс вопросов, возникающих в рамках реализации принципа языка уголовного судопроизводства, включая вопросы определения профессиональной компетенции переводчиков, обсуждаемые в юридической литературе.
В заключение отметим, что понятие и содержательное наполнение принципа языка уголовного судопроизводства имеют свои особенности. Так, понятие принципа языка должно включать в себя следующие элементы: наличие основы, структурными элементами которой являются положения конституционных и уголовнопроцессуальных законодательных предписаний, обязательное нормативное закрепление особенностей использования того или иного языка, с помощью которого осуществляется общение всех субъектов в нормативном акте, который регламентирует процедуру уголовного судопроизводства, обязательное наличие предусмотренного механизма защиты прав тех субъектов, которые не имеют возможности реализовать свои права в силу незнания такого языка.
Список литературы О содержательной составляющей принципа языка уголовного судопроизводства
- Хвостов А. С. Язык уголовного судопроизводства как гарантия конституционных прав и свобод граждан // Конституционные основы российского государства: история и современность. Рязань. - 2019. - С. 306-308.
- Верещагина А. В. Язык уголовного судопроизводства: некоторые результаты обобщения судебной практики // Государство и право. - 2018. - № 8. - С. 45-56.
- Насибов Ф. Ф. Теоретические аспекты института языка уголовного судопроизводства // Инновации. Наука. Образование. - 2020. - № 19. - С. 236-245.
- Широких К. С. Участие переводчика как основная гарантия соблюдения принципа языка в уголовном судопроизводстве // Вестник магистратуры. - 2019. - № 6-3 (93). - С. 100-103.
- Кудин Ф. М. Язык уголовного судопроизводства: отражает ли это название содержание принципа? / Ф. М. Кудин, А. А. Тушев // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 113. - С. 1674-1679.
- Самарин В. В. Переводчик как субъект уголовного процесса / В. В. Самарин, Е. С. Новиченко // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат-лам LXX студ. междунар. науч.-практ. конф. - 2019. - С. 528-532.
- Жданова Я. В. Язык уголовного судопроизводства в РФ: теория и практика // Инновационное развитие российской экономики: мат-лы X междунар. науч.-практ. конф. (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова; Российский фонд фундаментальных исследований). - 2017. - С. 77-81.
- Орлова А. А. О реализации принципа "язык уголовного судопроизводства" в российском уголовном процессе // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2016. - № 2. - С. 17-19.
- Гуськова А. В. Функция переводчика в уголовном процессе: дис.. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2018. - 336 c.