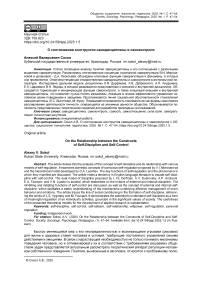О соотношении конструктов самодисциплины и самоконтроля
Автор: Сокол А.В.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу понятия самодисциплины и его соотношения с различными моделями саморегуляции. Рассмотрены отечественные концепции осознанной саморегуляции В.И. Моросановой и уровневой - Д.А. Леонтьева; обсуждены ключевые функции саморегуляции и феномены, в которых они проявляются. Отмечена тенденция отождествления самодисциплины и самоконтроля в англоязычной литературе. Исследована дуальная модель дисциплины Л.Я. Дорфмана, А.В. Дубровского, А.П. Андруника, Е.А. Цариева и В.Н. Лядова, в которой развиваются представления о внешней и внутренней дисциплине. Обсуждается тормозящая и инициирующая функции самоконтроля, а также концепция внешней и внутренней самодисциплины, что позволяет лучше понять механизмы, лежащие в основе эффективного управления человеком своим поведением и эмоциями. Прослеживается линия социальной обусловленности становления самодисциплины (Л.С. Выготский, М. Фуко). Показывается возможность понимания ее как формы смыслового регулирования деятельности личности, опирающейся на значимые ценности общества. Обосновывается полезность представленных теоретических моделей для разработки прикладных исследований.
Самодисциплина, самоконтроль, самость, самоотношение, сила воли, саморегуляция, личностная регуляция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147662
IDR: 149147662 | УДК: 159.923 | DOI: 10.24158/spp.2025.1.5
Текст научной статьи О соотношении конструктов самодисциплины и самоконтроля
которое продолжает оставаться особо значимым для человечества, поскольку связано с фундаментальными вопросами о том, как сосуществуют культурная и «естественная» природы человека, а также о том, как общество делает себя цивилизованным.
Проблема изучения дисциплины и смежных с ней понятий имеет в нашей стране давнюю и богатую традицию, однако разрабатывалась она преимущественно в педагогике. Тогда как в психологии указанная проблематика получила значительно более скромные исследования, на что обоснованно обращали внимание психологи (например: Дорфман, Лядов, 2015; Большунова, Алещенко, 2018 и др.).
Сложность и неразработанность теоретической проблемы самодисциплины и смежных с ней понятий привела к тому, что само оно по-прежнему остается в психологии неоднозначным, допускающим многочисленные трактовки. Уместно в сложившейся ситуации использовать терминологию Д.В. Ушакова о «фасеточном» характере психологической теории (Ушаков, 2020), когда существует множество не связанных между собой моделей самодисциплины, но отсутствует ее целостное видение. К тому же способы определения самодисциплины базируются на различных парадигмальных основаниях.
Нельзя не отметить, что длительное время в отечественной науке термины «дисциплина» и «дисциплинированность» рассматривались синонимично, в результате чего первая нередко произвольно трактовалась то как характеристика деятельности (поведения) человека, то как качество (свойство) его характера. К тому же дисциплина и дисциплинированность могут выступать как теоретические конструкты либо как эмпирические объекты. Указанное различение имеет существенное значение для инструментализации указанных терминов, без чего невозможно проведение эмпирических исследований с надежными инструментами измерений.
Следует указать, что значительная часть имеющихся психологических исследований была связана с военнослужащими и представителями других силовых структур и осуществлялась в контексте их боеспособности и эффективности выполнения служебных задач. При этом понимание дисциплины и дисциплинированности «достаточно часто обнаруживает тяготение к полюсу “нормативности поведения” и подчинения нормам, правилам поведения, внешним требованиям и пр.» (Большунова, Алещенко, 2018: 70).
Теоретико-методологическую основу проведенного исследования составили разработанные в отечественной психологии научные подходы (субъектно-деятельностный, системно-субъектный, субъектно-средовой, субъектно-бытийный, диалогический подход к пониманию человека и его жизнедеятельности, социокультурной детерминации психических процессов и др.). При этом акцент сделан не на выборе той или иной господствующей парадигмы, а на их возможной интеграции в интересах решения задачи исследования, связанной с теоретическим рассмотрением самодисциплины не изолированно, а в целостном виде, в тесной связи с контекстом, окружающей средой и обществом.
По нашему мнению, реализация такой попытки возможна в концептуальных рамках саморегуляции, терминология которой первоначально была заимствована из кибернетики. Идея саморегуляции в психологии рассматривается как альтернатива концепции линейной причинности (Леонтьев, 2016: 27). Изложенное проясняет, почему в отечественной психологии самодисциплину, как правило, соотносят с саморегуляцией, под которой чаще всего понимают процессы, описывающие участие психических структур в управлении активностью человека (Конопкин, 1995; Моросанова, Аронова, 2007; Осницкий, 2009 а, б).
Саморегуляция в широком определении охватывает все психические процессы, поскольку они организованы в системы, пронизанные обратными (регулирующими) связями, удерживающими баланс в диапазоне значений, приемлемых для человека. Между неосознаваемыми ее уровнями и осознаваемой частью идут активные процессы коммуникации. Мы знаем о них недостаточно, но взгляд на систему психики как организацию взаимодействующих частично автономных частей существует достаточно долго. Сама система саморегуляции стала предметом изучения только потому, что одним намерениям и мотивам человека противостояли другие. Соответственно, противоречия между ними, не решенные на нижних уровнях, неминуемо поднимались в сферу сознания, где и происходило тем или иным образом принятие решения.
Д.А. Леонтьев рассматривает саморегуляцию как «универсальный принцип активности живых и квазиживых систем, направляемых целями или другими высшими критериями желательного», а также как «механизм целесообразной коррекции активности в движении от менее благоприятных к более благоприятным результатам» (Леонтьев, 2016: 19).
Поскольку высшей формой психических процессов, которой обладает человек, является сознание, то высшей формой регуляции становится та, которая включает в себя сознание и его носителя, обладателя, агента и т. д., то есть самость или Я (Прохоров и др., 2023). Саморегуляция в узком смысле (как регуляция самости или Я) возникает при необходимости управлять собственными психическими процессами с уровня метанаблюдателя, например, затормозить один процесс в пользу другого.
В теории осознанной саморегуляции (ОСР), у истоков которой стоял О.А. Конопкин и которая развивается в настоящее время В.И. Моросановой, реализована универсальная модель регуляции системного подхода (Моросанова, 2021). В ней разделяется регуляция предметной деятельности человека и саморегуляция. Оба эти процесса выступают основаниями субъектности человека (Ос-ницкий, 2009 а, б). Были определены задачи, решаемые процессами саморегуляции, которые составляют инвариантную схему достижения цели, используемую также в теории функциональных систем, в кибернетике, в исследованиях идентичности и психотерапии. Управляющий блок системы, имеющей цель, определяет критерии и способы ее достижения (образ цели), состав задач, очередность их выполнения, способы мониторинга степени достижения цели и необходимость, а также характер коррекции деятельности. Были выделены основные процессы саморегуляции относительно достижения цели. Ими стали: планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, коррекция деятельности. Владение этими процессами характеризуется как когнитивно-операциональный ресурс и дополняется несколькими личностно-регуляторными свойствами, близкими волевой сфере личности (Моросанова, Кондратюк, 2020).
Конструкт саморегуляции, разрабатывавшийся О.А. Конопкиным и В.И. Моросановой, заявляется как высший уровень регуляции человеком собственных состояний и психических механизмов – осознанный уровень. Каждый этап движения к цели реализуется через формирование и использование функциональных систем (от универсальных до специфицированных на узкой задаче). Осознанная саморегуляция выступает средством координации, медиации и развития всего спектра индивидуальных психологических ресурсов (Моросанова, Аронова, 2007).
Саморегуляция на уровне рефлексии становится осознанной или целевой и как таковая предполагает воспитание, обучение и дисциплинирование. Здесь появляется феномен самодисциплины.
Д.А. Леонтьев выделяет пять уровней саморегуляции: самоконтроль, самодисциплину, самоуправление, самодетерминацию и самоорганизацию. Они охватывают задачи управления от торможения непосредственных импульсов до отсрочки действий во времени, регуляции их по достижению поставленных целей при меняющихся обстоятельствах, способности к постановке собственных целей и оптимизации системы психических процессов. Наличие мотивированной цели формирует конфигурацию подсистем, необходимых для ее достижения. Отдельно выделены эмоциональная и мотивационная саморегуляции, включающиеся при необходимости сбалансировать эмоциональное состояние и управлять выбором мотива, допускаемого к реализации. Завершает иерархию личностная саморегуляция, организующая управление состояниями и активностью человека на уровне его жизненных смыслов (Леонтьев, 2016). В целом, саморегуляцию можно понимать как функцию «иерархической системы, образуемой различными взаимосвязанными контурами; по отношению к большинству из них субъект может занимать активную позицию, произвольно выбирая и изменяя критерии желаемого и переключаясь с одной системы на другую» (Леонтьев, 2016: 29).
Хотя самодисциплина содержательно близка самоконтролю, но различия между ними все же имеют место. Так, Д.А. Леонтьев определяет самодисциплину как более сложную форму саморегуляции, чем самоконтроль. Это «отсрочка и, в более общем виде, планирование действий во времени. Для того чтобы осуществить переход от способности к самоконтролю и самодисциплине, нужна временная перспектива, способность к антиципации будущих событий, которая формируется постепенно в процессе развития» (Леонтьев, 2016: 28).
Л.Я. Дорфман с коллегами отмечают применение понятия самодисциплины в различных контекстах, но склонны также отождествлять ее с самоконтролем: «Тем не менее самодисциплину определяют все же через самоконтроль. Это способность личности подавлять в себе доминантные реакции в пользу более высокой цели и делать выбор не спонтанно и автоматически, а с помощью сознательных усилий» (Дуальная модель дисциплины …, 2017: 227).
Основываясь на концепции метаиндивидуального мира, утверждающей гетерогенную природу личности (Дорфман, 2016), исследователи допускают два режима сосуществования социальной дисциплины и самодисциплины: как функционирующих независимо, а также как разделенных, но все же имеющих область общего (Дуальная модель дисциплины ..., 2017: 228). Опе-рационализация конструкта дисциплины привела ученых к выделению таких ее основных компонентов, как послушание в детстве, строгость к себе, ориентация на результат, социальные мотивы, принятие ответственности на себя и осмысленность (Дуальная модель дисциплины …, 2017: 229). Исследователи протестировали три модели дисциплины в зависимости от перераспределения указанных шести компонентов: измерение общей дисциплины как единого феномена; независимые измерения социальной дисциплины и самодисциплины; а также измерения между общей дисциплиной, социальной дисциплиной и самодисциплиной (Дуальная модель дисциплины ..., 2017: 229–231). По их мнению, «общая дисциплина, предположительно, это область пересечения социальной дисциплины и самодисциплины» (Дуальная модель дисциплины …, 2017: 227). При условии различения самодисциплины и социальной дисциплины (по обусловленности последней внешними факторами) вопрос об их отношениях продолжает оставаться «исследовательским» (Дуальная модель дисциплины …, 2017: 227).
В англоязычной литературе термины «самодисциплина», «самоконтроль», «самоорганизация» и «саморегуляция», «контроль эмоций» и «сила воли» зачастую используются как родственные, взаимозаменяемые. Признается, что речь идет фактически об одном и том же феномене (Şal, 2022).
Следует отметить, что понятие самодисциплины стало менее популярным в последние несколько десятилетий в связи с развитием мировоззрения индивидуализма. Поэтому в англоязычных текстах, видимо, в целях политкорректности, оно зачастую заменяется понятием самоконтроля. Вместе с тем есть основания полагать, что семантическое поле понятия «самодисциплина» должно быть более точным для решения ряда прикладных задач.
Как известно, язык изменяется вместе со смыслами, которые циркулируют в обществе. Это касается как обыденного словоупотребления, так и научных терминов. Средством ориентации в содержании понятий являются тексты и словари, которые обновляются в соответствии с текущим словоупотреблением. Оксфордский словарь по психологии определяет самодисциплину как контролирование своего поведения, особенно сиюминутных импульсов, то есть фактически представляет ее как синоним самоконтроля1. Компьютерная версия Random House Webster’s Unabridged Dictionary с актуальными лексическими дополнениями определяет самодисциплину как дисципли-нирование и обучение себя, обычно с целью совершенствования2. Список связанных с самодисциплиной понятий включает установку, характер, решение, влечение, детерминацию, дисциплину, чувство, склонность, намерение, разум, страсть, силу, решимость, твердость и желание.
Проблема самоконтроля в западной литературе тесно связана с известным экспериментом Вальтера Мишела: так называемого «зефирного теста». Ребенка заводят в комнату, где на столе лежит зефирка и предлагают ему выбор: съесть ее сейчас же или подождать пятнадцать минут и получить вместо одной две вкусности. Затем взрослый выходит из комнаты и возвращается в нее через названное время. Одни дети преодолевают соблазн, другие – нет. Соответственно, самодисциплина определяется как способность откладывать удовлетворение текущей потребности в пользу более отдаленной цели. Это также и «способность заставить себя делать то, что вы знаете, что должны делать, даже когда вам этого не хочется»3, «способность контролировать свои чувства и преодолевать свои слабости»4. Подчеркивается, что самодисциплина проявляется в различных формах, таких как настойчивость, сдержанность, выносливость, умение думать, прежде чем действовать, доводить начатое до конца, и как способность выполнять свои решения и планы, несмотря на неудобства, трудности или препятствия.
Самодисциплина также означает самоконтроль, умение избегать нездорового избытка чего-либо, что может привести к негативным последствиям (Gorbunovs et al., 2016: 257), а также способность человека сознательно стремиться к высокой цели, подавляя другие желания, которые могут помешать достижению цели (Duckworth, Seligman, 2005). Также предлагается различать три формы самодисциплины:
-
– концентрация внимания, несмотря на отвлекающие факторы, такие как монотонность, скука, разочарование или усталость;
-
– торможение импульсов, характеризующееся остановкой побуждения к действию до обдумывания его последствий;
-
– отсрочка удовлетворения, которая описывается как преодоление нетерпения и откладывание краткосрочного вознаграждения ради долгосрочных выгод (Taylor et al., 2002).
Последующие исследования привели к пониманию того, что помимо способности подавить неуместное побуждение (тормозящий или ингибиторный самоконтроль) существует и инициирующий самоконтроль, то есть способность начинать деятельность без выраженных эмоционально мотивов. В целом двухфакторная структура самоконтроля (тормозящий и инициирующий) принята сегодня большинством зарубежных исследователей (Ridder de et al., 2012; Gillebaаrt, 2018; Fujita et al., 2018, Nilsen et al., 2020).
Наличие самодисциплины предсказывает лучшие достижения на жизненном пути. Люди с более высокой самодисциплиной удерживают в сознании мысли, ориентированные на решение задачи, способны представлять себе будущую пользу и сопротивляться текущим соблазнам (Mischel, 1974, Funder et al., 1983). Они лучше справляются с конфликтами между долгосрочными достижениями, требующими усилий и настойчивости, и краткосрочными текущими задачами (Hagger, Hamilton, 2019; Zhao, Kuo, 2015). Самодисциплина является основным компонентом, который прямо или косвенно способствует благополучию (Ridder de, Gillebaart, 2017).
Слабый самоконтроль увеличивает вероятность появления во взрослом будущем различных неприятных ситуаций, включая криминальность, наркотики, необоснованные финансовые решения и прочее.
Наиболее изученный по причине удобности исследования тормозящий самоконтроль показал, что способность противостоять соблазнам является истощаемым ресурсом и при длительном использовании приводит к ослаблению сопротивления и сдаче позиции (Baumeister, Heatherton, 1996). Однако эта способность восстанавливается после отдыха, как и физическая работоспособность. При осознанной саморегуляции адаптационные техники оказываются более разнообразными и часто не требуют существенных волевых усилий. Под инициирующим самоконтролем предлагается понимать все проактивные процессы и стратегии, которые люди используют для избегания отвлекающих побуждений, противоречащих их долгосрочным целям (Fujita et al., 2018).
В русле отечественной методологии исследования развития высших психических функции самодисциплина трактуется как психическое новообразование, происхождение и структуру которого следует искать в социально обусловленных взаимоотношениях людей. Самодисциплина личности складывается в поле действия дисциплины, к которой надо отнестись как одному из важнейших явлений социальной жизни. Дисциплина представляет собой и общественное отношение, и социальный процесс, имеющий задачей обеспечение и координацию коллективной деятельности.
В этой связи нельзя обойти вопрос о соотношении категорий дисциплины и свободы в развитии человека, поскольку первая связана с принуждением и подавлением лично-значимых потребностей, а также предполагает следование внешним требованиям, подчинение, послушание. Изложенное актуализирует проблему поддержания дисциплины как на социальных ценностях, так и на беспрекословном подчинении, основанном на страхе, насилии и т. п. В этой связи нельзя не отметить, что в зарубежной психологии дисциплинированность иногда исследуется «в контексте личностных нарушений, где чрезмерная ее форма выступает как признак обсессивно-компульсивной структуры характера (З. Фрейд, П. Жане, Мак-Вильямс Нэнси, А. Маслоу и др.)»1.
М. Фуко дал хотя и оценочно пристрастный анализ дисциплины как социального феномена, но достаточно точно описал особенности ее функционирования. Дисциплина решает наиболее заметную задачу подчинения человека стоящей над ним воле, то есть задачу функционирования власти. «Индивид … есть также реальность, созданная специфической технологией власти, которую я назвал “дисциплиной”. Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, “исключает”, “подавляет”, “цензурует”, “извлекает”, “маскирует”, “скрывает”. На самом деле, власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины» (Фуко, 1999: 284). Она в буквальном смысле производит социальных индивидов. «Дисциплинарная власть не координирует силы (индивидов) для того, чтобы их ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать. … она разделяет, анализирует, различает и доводит процессы подразделения до необходимых и достаточных единиц» (Фуко, 1999: 284). «Тот, кто помещен в поле видимости и знает об этом, принимает на себя ответственность за принуждения власти; он допускает их спонтанную игру на самом себе; он впитывает отношение власти, в котором одновременно играет обе роли; он становится началом собственного подчинения. Благодаря этому факту внешняя власть может уменьшить свою физическую тяжесть, она склоняется к бестелесному воздействию» (Фуко, 1999: 296–297). «Так возникает новое требование, обращенное к дисциплине: построить машину, действие которой будет максимально усилено благодаря согласованному сопряжению составляющих ее элементарных деталей. Отныне дисциплина – не просто искусство распределения тел, извлечения из них времени и накопления этого времени, а искусство сложения сил в целях построения эффективной машины» (Фуко, 1999: 239).
Л.С. Выготский рассматривал эту же ситуацию в конструктивной перспективе, полагая, что человек, освоив отношение другого к себе как предмету управления, овладевает средством слова как знака управления собственной психикой, получает способность ставить себе задачи и требовать от себя же их выполнения (Выготский, 1983). Однако ученый в меньшей степени обра- щал внимание на требование совместной деятельности в связывании участников единым тем-поритмом и стандартами выполнения через системы координации и подчинения, то есть на происхождение дисциплины из совместного труда.
Само возникновение человеческого общества и обеспечивающей его существование социально-экономической системы было невозможно без дисциплинирования людей, без следования правилам и отношениям власти – подчинения, руководства – исполнения. Конкретные практики дисциплинирования постоянно развивались вместе с цивилизацией, обеспечивая функционирование цивилизационного механизма саморазвития. При этом дисциплина рассматривается как инструмент развития человеком своего потенциала, как одна из основ его выживания в «тумане возможностей» и как необходимый конструктивный культурно-психологический ресурс для жизни «в мире транзитивности, где бытие человека служит мостом между порядком и хаосом» (Гусельцева, 2020: 493).
Внешний контроль действует через простейшее различение «соответствует / не соответствует». На каком-то этапе развития личности внешняя дисциплина дополняется, а в дальнейшем и сменяется внутренней.
Изложенное подтверждает гетерогенную природу дисциплины и требует ее рассмотрения не только в качестве унитарной (общей) системы, но и как полисистемы, с выделения двух основных типов (разновидностей) дисциплины – внешней и внутренней (самодисциплины). Воспринимаемый внешний контроль формирует внутреннего цензора, который фиксирует возможные отклонения в поведении. Поэтому нарушения, даже не выявленные внешним контролером, но отмеченные внутренним наблюдателем, способны создавать у человека чувство неудовлетворенности (уязвимости), мотивирующее его к избеганию «неправильного» поведения. В этом смысле самодисциплина – это способность следовать тому, что человек считает правильным. Соответственно, актуализируется вопрос о взаимных переходах между внешней и внутренней дисциплиной.
Формула власти над телом как машиной, наращивания его сил и способностей, увеличения его полезности и управляемости через включение в системы контроля (Сокулер, 2001) звучит намеренно жестко, но в целом это разумная формулировка направления саморазвития.
Самодисциплина выступает в качестве инструмента для жизни, но для ее мотивированного формирования жизнь должна иметь смысл. Цели, стремление к которым формирует самодисциплину человека, должны выходить за пределы его частной жизни и иметь связи с надличностными ценностями.
Будучи более сложной формой саморегуляции, чем самоконтроль, самодисциплина предполагает долгосрочную перестройку отношений с миром, которая обеспечит движение к цели без чрезмерного напряжения. Соответственно, она включает в себя осознанные суждения о поведении и долгосрочное планирование. Самодисциплина ориентирована на освоение времени как ресурса и тех аспектов деятельности, которые оказываются социально ценными (например, быстро заканчивать выполнение задач или не брать на себя обязательства, отвлекающие ресурсы от главной задачи). Целесообразность выделения самодисциплины как явления, не сливающегося и не поглощаемого близким к ней феноменом самоконтроля, обусловлена тем, что самодисциплина выступает как самостоятельная форма (уровень) смыслового регулирования деятельности личности, связанная с планированием действий (поведения) во времени с опорой на социальные ценности, организующие и направляющие общество. Таким образом, в качестве целостного рабочего определения самодисциплины можно принять следующее: это то, что люди осознанно делают, чтобы в ситуации конфликта побуждений организовать свою активность в направлении социально желаемого долгосрочного результата.
Представляется, что выделение самодисциплины как особого предмета психологического исследования и более глубокое понимание ее процессов способно добавить полезное знание в пространство проблем регуляции и саморегуляции социальной активности личности. А уточнение взаимосвязей и различий в терминах проблемного поля саморегуляции позволит получить более точный взгляд на процессы, связанные с субъектной активностью человека в меняющемся мире и найти дополнительные средства для понимания его проблем в интересах оказания психологической поддержки.
Список литературы О соотношении конструктов самодисциплины и самоконтроля
- Большунова Н.Я., Алещенко М.В. Дисциплинированность, ее структура и типология у военнослужащих (курсантов) войск национальной гвардии российской федерации // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 5. С. 69-82. DOI: 10.15293/1813-4718.1805.08 EDN: YNHTWX
- Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений: в 6 т М., 1983. Т. 3. 368 с.
- Гусельцева М.С. Практики самодисциплины в транзитивном обществе: стоический ренессанс и скандинавизация потребления // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. 17, № 3. С. 478-499. EDN: FDMMHI
- Дорфман Л.Я. Каузальный плюрализм и холизм в концепции метаиндивидуального мира // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13, № 1. С. 115-153. DOI: 10.17323/1813-8918-2016-1-115-153 EDN: WHUKZZ
- Дорфман Л.Я., Лядов В.Н. Метаиндивидуальная модель дисциплинированности (на материале исследования курсантов военного вуза МВД) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2015. Т. 8, № 1. С. 17-28. EDN: TNYIBT