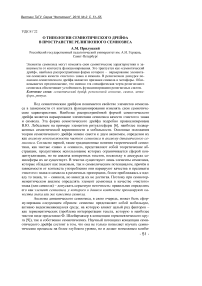О типологии семиотического дрейфа в пространстве религиозного семиозиса
Автор: Прилуцкий Александр Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Элементы семиозиса могут изменять свои семиотические характеристики в зависимости от контекста функционирования. Это трактуется как «семиотический дрейф», наиболее распространённая форма которого - варьирование элементами семиозиса качеств «чистого» знака и символа. В религиозном дискурсе полюсами семиотического дрейфа являются признаки символа и метафоры. Обосновывается предположение, что именно эта специфическая черта религиозного семиозиса обеспечивает устойчивость функционирования религиозных систем.
Семиотический дрейф, религиозный семиозис, символ, метафора, ритуал
Короткий адрес: https://sciup.org/146281260
IDR: 146281260 | УДК: 81`22
Текст научной статьи О типологии семиотического дрейфа в пространстве религиозного семиозиса
Под семиотическим дрейфом понимается свойство элементов семиози-са в зависимости от контекста функционирования изменять свои семиотические характеристики. Наиболее распространённой формой семиотического дрейфа является варьирование элементами семиозиса качеств «чистого» знака и символа. Эта форма семиотического дрейфа подробно проанализирована В.Ю. Лебедевым на примере элементов ритуалосферы [6], наиболее подверженных семиотической вариативности и мобильности. Основные положения теории семиотического дрейфа можно свести к двум аксиомам, определим их как аксиому невозможности чистого семиозиса и аксиому динамического се-миозиса . Согласно первой, такие традиционные понятия теоретической семиотики, как чистые «знак» и «символ», представляют собой теоретические абстракции, продуктивное использование которых ограничивается сферой концептуализации, но не анализа конкретных текстов, поскольку в дискурсах се-миосферы их не существует. В текстах существуют лишь элементы семиозиса, которые обладают как знаковым, так и символическим потенциалом, причём в зависимости от контекста употребления они варьируют качества и предикаты «чистого» знака и символа в различных пропорциях, более приближаясь к идеалу то знака, то - символа, но никогда их не достигая. Поэтому при семиогер-меневтическом анализе определять элемент семиозиса в качестве «чистого» знака (или символа) - допускать серьезную неточность: правильнее определить его как элемент семиозиса, у которого в данном контексте превалируют качества знака или же качества символа.
Аксиома динамического семиозиса, в свою очередь, может быть сформулирована следующим образом: семиозис представляет собой мобильную, активно видоизменяющуюся среду, на которую влияет целый ряд факторов – как герменевтических (проблема интерпретации текста, которую в наиболее чистом виде представил Ф. Шлейермахер в концепции герменевтического круга [9]), так и собственно семиотических. Научный потенциал концепции семиотического дрейфа состоит в том, что она не только позволяет изучать семиотические процессы на более глубоком уровне, но и делает возможным комби нирование методов семиотического и герменевтического подходов, что в перспективе должно сформировать контуры синтетического научного подхода к изучению семиозиса - семиогерменевтики [4].
Наряду с семиотическим дрейфом, полюсами которого является «знак» и «символ», в пространстве религиозной семиосферы наблюдается не менее распространённый дрейф, в результате которого элементы семиозиса варьируют характеристики символа и метафоры. Ранее нами было высказано предположение, что данная форма дрейфа обеспечивает устойчивость религиозных знаковых систем, позволяя их элементам изменять семиотические и семантические характеристики в зависимости от коммуникативных интенций [7].
Как известно, религиозное знание в рамках религиозной традиции существует в одной из двух основных форм - мифологической и теологической [8]. Одно и то же религиозное знание может быть представлено - без особого урона для смысла - как в мифологическом, так и теологическом формате, но за этими различными способами организации религиозной концептосферы стоят различные герменевтические и семиотические инструменты формирования дискурса. Теологический дискурс отличается рефлективностью, тогда как мифологический концентрируется вокруг сюжетно-событийной канвы повествования. Между ними существует множество переходных форм, и, как не существует в религиозном дискурсе чистой катафатики, в теологическом дискурсе всегда присутствуют реликты древней мифологии. Данная проблема осложняется интердискурсивностью: поскольку теология конструирует собственную семиосферу не на пустом месте, но на основе предшествовавших мифологических дискурсов и из их элементов (что вовсе не исключает возможность заимствовать отдельные понятия и термины из философских дискурсов), мифологические реликты неизбежно присутствуют даже в самых развитых и сложных теологических системах.
На уровне концептуальном семиотическому дрейфу соответствует способность религиозных концептов в зависимости от контекстов и коммуникативной прагматики варьировать герменевтические свойства теологемы или мифологемы. Так происходит, например, вторичная мифологизация, когда в условиях народной религиозности, тяготеющей к мифо-магическому мировосприятию, теологические понятия трансформируются в мифологемы; при этом интердискурсивность основных семем может проявляться на двух уровнях -интердискурсивности первого уровня соответствует наличие мифологических и теологических коннотаций (если лексема заимствована из мифологической концепосферы и ресемиотизирована в пространстве теологии) и философских и теологических (при заимствовании понятия из языка философии).
Проведённый нами анализ специфики современных мифологических субдискурсов народной религиозности позволяет сделать предварительный вывод о том, что мифологизации преимущественно теологического дискурса соответствует семиотический дрейф от символа к метафоре/аллегории, и наоборот - теологизации исходно мифологического дискурса соответствует семиотический дрейф по направленности метафора/аллегория - символ. Наличие этого дрейфа обеспечивает устойчивость религиозной традиции, обретающей, таким образом, возможности, не выходя за пределы заданной концепто-сферы, удовлетворять духовные запросы носителей как теологической культу- 52 - ры, так и мифологического мировосприятия. При этом в результате взаимодействия различных знаковых систем, или точнее - знаковых систем различных уровней, формируется своего рода ситуация мультимодальности [3], отличительная для этих типов коммуникации.
Это свойство религиозного семиозиса проявляется и в целенаправленном создании герменевтической амбивалентности, используемой для апологетических целей адептами различных современных субкультурных обществ христианского паттерна. Анализ семиотических особенностей дискурсов маргинального православия позволяет сделать вывод о том, что присутствующие в ритуалосфере семиотические комплексы априорно не предназначены для чёткой семиотической стратификации. Любопытно, что даже такие концептуально значимые для соответствующих субкультур понятия, как «царь-искупитель», «соборный грех», «соборная смерть народа», «жид» и т.п. характеризуются принципиальной амбивалентностью, позволяющей в зависимости от контекста коммуникации и её прагматических установок развивать семиотические свойства как метафоры, так и символа. Пресловутый «жид» начинает интерпретироваться как метафорическое обозначение представителей любых этносов, враждебно настроенных по отношению к русской монархии, что должно в идеале защитить экстремистов от возможного судебного преследования по обвинению в разжигании национальной розни: как утверждают авторы одиозного псевдоправославного ресурса - «Православные Христиане понимают слово “жид” прежде всего в духовном смысле, а не в этническом. Для православного Человека “жид” - это прежде всего тот, кто восстает на Господа Иисуса Христа и не Его Помазанника “христа Господня [Царя]”» [2].
Так происходит детерминологизация базовых концептов, являющихся своего рода семиотическим кодом соответствующей субкультуры: утрачивая семантическую чёткость и однозначность и одновременно развивая эмотив-ность в своей семантике, они перестают выполнять функции теологических терминов - выражать специальное богословское понятие. Это качество семио-зиса позволяет говорить, что дискурсы современных христианских субкультур организованы принципиально иначе, нежели традиционные христианские теологические дискурсы, ориентированные на патристическую или схоластическую парадигму. В последних базовые теологические концепты типа «природа», «ипостась», «единосущный», «триединство» и т.п. имеют чёткое терминологическое значение, формируемое, как правило, на основании символизма богословских понятий. Поэтому, интерпретируемые символически, перечисленные понятия никогда не реализуют в ортодоксальных дискурсах свойства метафоры. Метафорическая (а не богословская символическая) интерпретация, например, христологических терминов, способна породить сугубо еретическую интерпретацию основных догматов христианства. Стоит отметить, что отличие теологического и религиозно-философского дискурсов можно проводить на основе данного свойства базовых теологических терминов, поскольку у терминов философских в большинстве случаев отсутствуют чёткие определения, и «можно говорить о том, что вся совокупность контекстов, в которых данный термин встречается, - это развёрнутое определение» [5: 433].
Превращение богословской метафоры в элемент семиотического кода субкультуры начинается едва ли не с протестантизма, породившего деклара тивную триаду Sola fide, sola gratia, sola scripture, безусловно являющуюся метафорической гиперболой и своего рода пустым рамочным понятием.
Возможность семиотического дрейфа активировать различные герменевтические механизмы, как уже было отмечено выше, используется для нужд апологетики соответствующих субкультурных установок, критикуемых с позиций магистральных теологических культур. В большинстве случаев критике подвергаются базовые концепты соответствующих субкультур, будь то «царь-искупитель» в маргинальном православии радикально-монархического паттерна или «спасение Писанием» в фундаменталистическом протестантизме, причём подобные концепты критикуются как ересь, теологическое упрощенчество и модернизм (как справедливо показал Д.А. Головушкин, модернизм и фундаментализм часто выступают как амбивалентные феномены [1]).
В связи с этим, для снятия подобных обвинений, критикуемые с позиций церковного традиционализма модернистские концепты интерпретируются их адептами как своего рода поэтические метафоры, не претендующие на терминологическую точность. Так, «Русская Голгофа» из сомнительнейшего со-териологического термина трансформируется в поэтическую гиперболу, не менее странная в теологическом отношении семантема «царь-искупитель» утрачивает свою провокативность и становится поэтическим приёмом, призванным подчеркнуть «христоподражательный характер» религиозного мученичества, а протестантская «sola scripture» интерпретируется как «поэтическое обозначение» одного из герменевтических принципов понимания библейского текста, не более того. В основе подобного апологетического приёма находится умышленное создание ситуации семантической нечёткости, подразумевающей возможность «конфликта герменевтик»: то, что критики интерпретируют как теологический термин – адепты оправдывают как поэтическую метафору.
Кроме того, семиотический дрейф позволяет библейские метафоры трансформировать в символы и семантизировать последние в качестве элементов семиотического субкультурного кода и богословских терминов. Именно таким образом новозаветные метафоры «рождение свыше» и «крещение Духом Святым» обретают символическое прочтение и терминологизацию в субкультурах протестантского паттерна, придавая последним видимость «теологических систем», фундированных новозаветной герменевтикой.
За пределами апологетики анализируемое свойство семиотического дрейфа активно используется для формирования «эзотерической теологии» для посвящённых, которые по своим мировоззренческим установкам готовы разделить теологический модернизм. В этом случае соответствующие понятия интерпретируются в качестве теологических символов, и то, что при полемике оправдывалось в качестве поэтических тропов, среди единоверцев семиотизи-руется именно как точное (терминологическое) обозначение неортодоксального теологического понятия, не предназначенное для «внешних». Примеры подобной герменевтики можно встретить на различных «закрытых форумах», но иногда они попадают и в открытый доступ – «убиенный Император-Искупитель Николай Александрович своей крестной смертью непосредственно во всей полноте, мистически повторил и возобновил Голгофскую смерть Царя-Христа, искупив в Екатеринбурге соборный грех русского народа».
Проведённые исследования подтверждают исходный тезис: способность к разнонаправленному семиотическому дрейфу обеспечивает устойчивость религиозных семиотических систем. Семиотическая амбивалентность элементов религиозной концептосферы позволяет задействовать герменевтические механизмы, обеспечивающие выбор интерпретаций, соответствующих коммуникативным условиям.
ON THE TYPOLOGY OF A SEMIOTIC DRIFT
Список литературы О типологии семиотического дрейфа в пространстве религиозного семиозиса
- Головушкин Д.А. Религиозный фундаментализм/религиозный модернизм: концептуальныепротивникиилиамбивалентныефеномены?//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2015. № 1. С. 87-97.
- Жиды -кто они? что означает слово «жид» в русской православной традиции/URL: http://www.ic-xc-nika.ru/texts/Alexandrov_M/Stati/Kto_takie_zhidy.html
- Залевская А.А. Общенаучное и узкоспециальное значение термина//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 2. С. 7-13.
- Карандашов В.Д., Лебедев В.Ю. Пролегомены семио-герменевтического религиоведения//Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017, № 3. С.124-133.
- Козловская Н.В. К описанию языка русской религиозной философии//Труды института русского языка им. В.В. Виноградова. 2014. № 2-1. С. 431-444.
- Лебедев В.Ю. Семиотический анализ западнохристианского религиозного ритуала: дис.... докт. философских наук: 24.00.01. Химки, 2009. 404 с.
- Прилуцкий А.М. Семио-герменевтические особенности дискурсов страха современной маргинальной религиозности//Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18. № 1. С. 185-193.
- Смирнов М. Ю. Магия, религия и мифологическое сознание//Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. СПб.: С.-Петерб. философ. об-во, 2001. С. 66-68.
- Шлейермахер Ф. Академические речи 1829 года. М.: Научн. изд., 1987. 218 с.