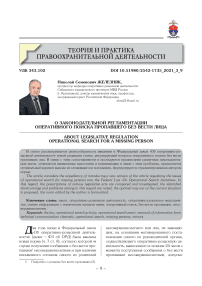О законодательной регламентации оперативного поиска пропавшего без вести лица
Автор: Железняк Н.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (44), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается целесообразность введения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» новой редакции статьи, регулирующей вопросы оперативного поиска без вести пропавших лиц. В связи с этим сопоставляются и исследуются предписания различных законодательных актов, отмечаются выявленные недостатки и возникающие в связи с этим проблемы, предлагается оптимальный вариант выхода из сложившегося положения, формулируется отредактированная автором норма.
Закон, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, снятие информации с технических каналов связи, оперативный поиск, без вести пропавшие, несовершеннолетние
Короткий адрес: https://sciup.org/140261776
IDR: 140261776 | УДК: 343.102 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_3_9
Текст научной статьи О законодательной регламентации оперативного поиска пропавшего без вести лица
Два года назад в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) была введена новая норма (ч. 7 ст. 8), согласно которой «в случае получения сообщения о без вести про-павшем1 несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем, допуска-

Вестник Сибирского юридического института МВД России
ется получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведе-ние»2.
По своей форме рассматриваемое положение весьма напоминает предписание, закрепленное в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД, сформулированное следующим образом: «В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение».
Вместе с тем между ними имеются и отличия. Ниже мы будем сравнивать новое положение с нормой, содержащейся в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД, для краткости обозначив их соответственно аббревиатурами НП-7 и ИП-33. Как мы увидим далее, без такого сопостав- ления вряд ли представляется возможным понимание сопряженности анализируемого положения с предметом настоящего исследования.
Во-первых, НП-7 было обращено исключительно на поиск без вести пропавших несовершеннолетних, тогда как ИП-3 ориентировано на предотвращение тяжкого или особо тяжкого преступления или минимизацию угроз национальной безопасности Российской Федерации.
Во-вторых, в НП-7 упомянуты два условия, позволяющие осуществить указанные в предписании действия: наличие сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и письменного согласия одного из его родителей или лиц, их заменяющих, тогда как в ИП-3 содержатся также два, но иных условия: возникновение случаев, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также наличие данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Первый вопрос, возникающий после ознакомления с предписанием, можно сформулировать следующим образом: зачем необходимо получать судебное разрешение на ограничение одного из прав несовершеннолетнего, если на это дали письменное согласие родители, которые в соответствии с ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ «являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий»? На наш взгляд, положение ст. 56 СК РФ: «Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими)», хотя это прямо не указано в законе, означает возможность ограничения указанными лицами или с их письменного согласия компетентными органами некоторых прав ребенка с целью реализации его права на защиту (жизни,

Теория и практика правоохранительной деятельности ^ЖМ^
здоровья и т.п.). Оппоненты могут возразить против этого тезиса, аргументируя свою позицию содержанием предписания ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, в соответствии с которым «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». Вместе с тем в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ отмечается, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Таким образом, ответ на поставленный нами вопрос нормодателем не сформулирован.
Вторая проблема – определение сущности заменяющих родителей лиц (дословно – заменяющих их лиц), упомянутых в исследуемом предписании.
Поиск данного словосочетания в нормативной правовой материи позволяет судить, что в Конституции РФ оно упоминается единожды (наряду с родителями применительно к обеспечению получения детьми основного общего образования – ст. 43). Неоднократно встречается рассматриваемое понятие в СК РФ. Наиболее близка в этом контексте норма ч. 1 ст. 56 «Право ребенка на защиту», согласно которой «защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом». Трижды эта идиома фиксируется в ст. 134, 135 и 142 УИК РФ.
К сожалению, в иных законодательных актах она не присутствует. Более того, ни в одном нормативном правовом документе такого уровня не разъясняется содержание этого выражения, а это является уже правовой проблемой, поскольку при возникновении указанных выше условий и при отсутствии одного или обоих родителей определить лицо, их заменяющее, правомочное давать письменное согласие на содержащиеся в предписании действия оперативного подразделения, достаточно проблематично. В связи с этим возникает ряд вопросов: является ли таким лицом, например, тетя без вести пропавшего ребенка, во время каникул проживавшего в другом городе с ней? может ли давать письменное согласие на осуществление указанных действий воспитатель стационарной группы детского сада, вожатый в лагере отдыха4, педагог, руководящий коллективом несовершеннолетних, пошедших в поход или уехавших в туристическое турне, тренер находящейся на выезде молодежной спортивной команды, врач стационара лечебного заведения?5 Этот список можно было бы продолжать, но и отмеченного вполне достаточно для вывода о небезупречности предложенной в норме закона формулировки.
Отсутствие в законе четкого описания предмета вызывает необходимость обратиться к решениям высших судов Российской Федерации. Так, в п. 14 Пленума Верховного Суда РФ6 содержатся следующие разъяснения: «Не могут быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели).
Таким образом, выражение «лица, их (родителей – Н.Ж.) заменяющие» к таковым от-
Вестник Сибирского юридического института МВД России
носит усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспита-телей7, а поэтому вопросы, сформулированные нами в этой части работы, к сожалению, остались без ответа.
Вероятно, следовало бы в представленную в ФЗ об ОРД норму внести дополнение о возможности причисления к указанным категориям субъектов - инициаторов временного ограничения прав человека, отраженных в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, лиц, несущих ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период временного отсутствия его связи с родителями и лицами, их заменяющими. Однако стоит ли в принципе посторонним людям давать такую возможность?8
Иной путь решения этой проблемы (и, по нашему мнению, наиболее продуктивный) вытекает из положения ч. 4 ст. 16 ФЗ об ОРД, согласно которому «при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (здесь и далее курсивом выделяются наиболее значимые фразы и словосочетания – Н.Ж.), либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга».
Применительно к исследуемой норме это положение оперативно-розыскного закона, на наш взгляд, ради защиты жизни и здоровья ребенка позволяет при отсутствии в данный момент возможности контакта с уполномоченными этим законом фигурантами (родителями и лицами, их заменяющими) начать ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановления руководителя органа, уполномоченного на осуществление ОРД, с последующим получением соответствующего судебного решения9.
В-третьих, НП-7 ориентировано на проведение лишь одного ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», включающего в себя в данном случае получение сведений о соединениях абонентского устройства10, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства. Напротив, ИП-3 охватывает осуществление любых ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан11.
В-четвертых, в НП-7 основанием для осуществления рассматриваемых действий выступает сообщение о без вести пропавшем несовершеннолетнем, тогда как ИП-3 регламентирует проведение ОРМ при наличии информации (в интересующем нас контексте) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно, и причастных к нему лицах.
В-пятых, в соответствии с НП-7 проведение ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» возможно без судебного ре-
Теория и практика правоохранительной деятельности
шения с уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов и последующим получением такого решения в течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ. Аналогичная процедура содержится и ИП-3. Вместе с тем если в ИП-3 речь идет просто о вынесении соответствующего постановления руководителем органа, осуществляющего ОРД, то в НП-7 представлен временной период (24 часа), в который это постановление должно быть вынесено. В связи с этим возникает закономерный вопрос: можно ли будет вынести такое постановление по миновании 24 часов, например, на 25 часу или 26 часу с момента поступления сообщения о без вести пропавшем?12 А если нельзя, то это реально может привести к нормативно закрепленной негативной ситуации, в которой оперативные подразделения не смогут использовать максимально доступные средства для обнаружения пропавшего и, возможно, нуждающегося в неотложной помощи лица.
Предложенные выше размышления позволяют сделать некоторые выводы.
Краткий анализ предписания вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, законодатель, помимо несовершеннолетних, распространил норму и на иных пропавших лиц, что, безусловно, является значительным шагом вперед в решении одной из задач ОРД и формально минимизирует возможные тяжкие последствия факта пропажи без вести. С другой – он оставил без изменения критиковавшееся нами выше положение, согласно которому « при получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем либо лице, признанном в установленном законом
Вестник Сибирского юридического института МВД России
порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица ».
Представленная выше характеристика законодательной новеллы позволяет сформулировать некоторые идеи, имеющие прямое отношение к предмету нашего исследова-ния14. В частности, следовало бы предложить новую редакцию ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД: «В случае получения сообщения о без вести пропавшем по решению одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на основании его мотивированного постановления допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у пропавшего без вести, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи, обследование последнего места его пребывания (жилища) с обязательным уведомлением об этом суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить соответствующее судебное решение либо прекратить его проведение».
Такой подход независимо от желания субъектов инициации розыска без вести пропавших уже в обозримом будущем позволил бы обеспечивать максимально возможную защиту рассматриваемых лиц.
Список литературы О законодательной регламентации оперативного поиска пропавшего без вести лица
- Буряков, Е.В. Организационные и правовые вопросы раскрытия преступлений по фактам безвестного исчезновения Е.В. Буряков // Алтайский юридический вестник. - 2019. - N 1(25). - С. 97-100.
- Буряков, Е.В. Розыскная деятельность оперативных подразделений полиции: дис. … докт. юрид. наук / Е.В. Буряков. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2020.
- Лузько, Д.Н. Розыск военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы: правовые и практические аспекты / Д.Н. Лузько // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - N 2 (14). - С. 138-144.