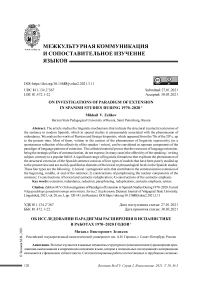Об исследовании парадигмы расширения в испанистике в работах 1970-2020 годов
Автор: Зеликов Михаил Викторович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье изучаются языковые механизмы структурного (синтаксического) расширения предложения-высказывания в современном испанском языке, которое в специальных исследованиях неоправданно связывается с феноменом избыточности. Систематизированы работы отечественных и зарубежных испанистов, в основном опубликованные в период с 70-х гг. XX в. до настоящего времени, в которых преимущественно в контексте явления языковой экспрессии (как спонтанного отражения аффективности говорящего / пишущего субъекта) фрагментарно рассматриваются отдельные компоненты парадигмы языковых моделей расширения. В результате анализа эмпирического материала установлено, что вопреки распространенному мнению ресурсы языкового расширения, являясь стратегическими опорами коммуникации, во многих случаях не выражают аффективности говорящего / пишущего субъекта. Значительный корпус языковых образований, эксплицирующих феномен структурного расширения испанского предложения-высказывания, представлен четырьмя типами моделей, до настоящего времени неудовлетворительно изученных и квалифицируемых в отечественной и зарубежной испанистике как элементы лексического или фразеологического уровней: 1) лексические / синтагматические единицы, способствующие коммуникативному расширению начала, середины или конца высказывания; 2) конструкции перифразирования ядерных компонентов высказывания; 3) конструкции лексической и синтаксической редупликации; 4) конструкции синтаксической эмфазы.
Расширение, избыточность, сокращение, перефразирование, редупликация, синтаксическая эмфаза, синтаксис
Короткий адрес: https://sciup.org/149137950
IDR: 149137950 | УДК: 811.134.2’367 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.3.11
Текст научной статьи Об исследовании парадигмы расширения в испанистике в работах 1970-2020 годов
DOI:
Языковые механизмы, указывающие на структурное (синтаксическое) расширение предложения-высказывания, после появления в середине XX в. работ А. Мартине, связываются с феноменом избыточности. Несмотря на очевидное противоречие – абсолютное большинство языковых моделей, рассматриваемых как избыточные, таковыми, собственно, не являются, до настоящего времени общепринятым термином для их обозначения остается redundancy (англ.), redoundance (фр.), redundancia в испанской грамматической традиции [Vigara Tauste, 1984; Narbona Jiménez, 1986; Hernando Cuadrado, 1988]. В испанских и португальских исследованиях он применяется и для номинации фигуры речи – плеоназма (греч. «избыточность», «переизбыток»), который как «ошибочное добавление (adjectio)» (по Квинтилиану I, 5, 38) [Desbоrdes, 1983, p. 26] должен относиться только к образованиям типа лат. prima initia inchoare «начинать первые начала» или рус. работать на работе, обычно всегда. То же – испанские: eso es muy imposible; se ve perfectamente bien; ya te guardarás muy mucho de hacer semejante cosa [Vigara Tauste, 1992, p. 157, 166] и другие тавтологические образования, возникающие в процессе речевой деятельности. В отличие от обязательных (грамматических) и факультативных (стилистических) плеоназмов, обусловленных языковой системой / нормой и экспрессивными целями выс- казывания соответственно, они продолжают квалифицироваться как неправильные. Понятие плеоназма как «переизбытка» [Гаспаров, 2000, c. 462] в строгом смысле является релевантным только при рассмотрении языковой системы в качестве кода. Тем не менее любая теория кодовых функций формального языка не может подменить собой вариативность естественного «языка в действии». По мнению А.В. Десницкой, «богатство форм и избыточность грамматических показателей или же, наоборот, доведенный до пределов лаконизм формального выражения» – это «свойства эстетики естественных языков», которая вряд ли выше «эстетики, закладываемой в роботов... теория кодовых функций, присущая любой языковой системе... не может подменить собой язык в целом» [Десницкая, 1985, c. 12]. Например, именно потребностями коммуникации предопределяется использование не одного, а двух глагольных компонентов, соединенных союзом в моделях так называемого энумеративного предиката. Ср.: рус. Взял и поехал, исп. Va y me dice – «Он (идет) и говорит мне» (подробнее см.: [Зеликов, 2005а, c. 200–201]) 2.
В бинарно-структуралистском противопоставлении «экономия / избыточность», доминирующем в современной лингвистике, остается незадействованным понятие «полной (цельной) формы», обязательно наличествующей в фундаментальной тернарной схеме классического европейского языкознания (Аполлоний Дискол, II в. н. э.), по отношению к которой все остальные формы рассматривались как противоположенные. Именно в результате такого противопоставления они определяются как «неполные (эллиптические)» либо «плеонастические» [Lallot, 1983, p. 9– 10] – ошибочные, языковые и стилистические.
Полная парадигма языковых моделей расширения (добавления (adjectio) компонентов к исходной полной форме) в испанистике до сих пор не выявлена, в отличие от моделей риторического расширения (amplificatio, dilatatio) – фигур речи, использующихся как средство «распространения» материала, противопоставленного его «сжатию», например сравнение (collation) 3, или как переводческий прием.
В статье анализируются работы отечественных и зарубежных испанистов (с 70-х гг. XX в. до настоящего времени), в которых осуществляется фрагментарное исследование языковых моделей расширения. Они изучались преимущественно в контексте языковой экспрессии как спонтанного отражения аффективнос-ти говорящего / пишущего субъекта [Vigara Tauste, 1984, p. 30], что не представляется бесспорным: ресурсы языкового расширения во многих случаях являются стратегическими опорами ведения коммуникации, но аффектив-ности адресанта при этом не отображают.
В статье рассматриваются следующие составляющие корпуса моделей расширения: I) модели коммуникативного расширения начала, середины и конца высказывания; II) модели перифразирования ядерных компонентов предложения-высказывания; III) лексические и синтаксические модели редупликации, являющейся не средством украшения речи, а языковой универсалией; IV) модели синтаксической эмфазы, многочисленные разновидности которой в отличие от эмфазы как риторической фигуры мысли исследованы до настоящего времени недостаточно.
Результаты и обсуждение
-
I. Модели коммуникативного расширения начала, середины и конца высказывания
Как показывает материал специальных исследований, коммуникативное расширение структуры предложения-высказывания осуществляется в рамках стратегических моде- лей ведения коммуникации говорящим субъектом. Они представлены двумя типами: однокомпонентными и синтагматическими моделями. К первому относятся субстантивные, адъективные, адвербиальные и глагольные конструкции, а также конструкции с союзами pero, conque и частицей pues. Ко второму – субстантивные, местоименные, адъективные, адвербиальные и глагольные конструкции с предлогами и союзами. В рамках коммуникативного расширения рассматривается одна из языковых / речевых функций – фатическая (от лат. fatuor, -ari «предсказывать»), исследованная в испанском разговорном языке [Vigara Tauste, 1990b; Herrero Moreno, 1994; и др.]. Истоки ее изучения содержатся в пионерской работе В. Байнхауэра (tendencia retardataria) [Beinhauer, 1985, p. 354], восходящей к научному наследию его предшественника и учителя Л. Шпитцера. Отталкиваясь от материала, изложенного в статье Г. Эрре-ро Морено, С. Эрнандес Алонсо выделяет: 1) формулы начала коммуникации, соответствующие формам начала диалога у В. Байн-хауэра: ¿qué tal?, mira por dónde, pues, esto, lo que pasa, verá usted, bueno, conque, digo yo que; 2) формулы продолжения коммуникации: y otra cosa, a propósito, por cierto, asί que, conque, es más, de todos modos, al grano; 3) формулы прерывания коммуникации собеседника: a eso voy, a propуsito, por cierto, calla; 4) формулы окончания коммуникации: adios, hasta luego, y punto, en fin, lo dicho [Hernández Alonso, 1995, p. 54–55]. Необходимо при этом пояснить, что некоторые из приведенных «формул», представленных двумя разновидностями моделей – однокомпонентными (pues, conque, calla, adios) и синтагматическими (lo que pasa, asί que, a eso voy, lo dicho), используются не только как средство расширения высказывания, но и как самостоятельные реплики в процессе коммуникации.
Рассматриваемую разновидность расширения составляют различные модели наполнения структуры (expresiones de relleno), которые, не имея значения с концептуальной точки зрения, используются в качестве стимуляторов коммуникации (estimulantes conversacionales) [Vigara Tauste, 1992, p. 189, 380] и являются, по мнению Г. Эрреро Морено, индикаторами «человеческого фактора в процес- се общения» [Herrero Moreno, 1994, p. 87]. Изучение этих образований, осуществляемое в русле современной лингвистической семиотики (семиологии), предполагает, помимо обращения к синтаксическому и семантическому критериям, обязательное внимание к фактору прагматики [Vigara Tauste, 1992, p. 76]. Как отмечается лингвистами, эти диалогические опоры, не имея собственной цели в высказывании, подобны клапанам (válvulаs) запуска аффективности говорящего субъекта, что обусловлено субъективностью разговорного языка. Этo слова-опоры (рalabras-pilares) [Díaz Padilla, 1985, p. 110], представляющие серию средств, обычно вводимых (в процессе диалогического общения) характерными синтагмами (и отдельными лексемами. – М. З.) [Díaz Padilla, 1985, p. 105], которые в работах испанских грамматистов, исследующих феномен избыточности, называются присказками (muletillas), джокерами (то есть «словами универсального характера» – comodines), повторами (repeticiones), словами-паразитами (estribillos), пословицами (refranes) и пр. (см.: [Vigara Tauste, 1992, p. 289]). В истоках их исследования, осуществляемого в русле функционально-коммуникативного (дискурсивного) направления, лежит замечание о «словечках» (bordones), появившееся в «Диалоге о языке» Хуана де Вальдеса (1535 г.), которые некоторые люди обыкновенно используют в своей речи 4. Первые попытки систематизации слов, имеющих сопроводительную функцию в высказывании, можно отметить в монографии С. Хили и Гайя, впервые определившего эти «сверхпредложенческие соединители» (enlaces extraoracionales) как muletillas [Gili y Gaya, 1968, p. 326], и в «Грамматике» Х. Альсины Франч и Х.М. Блекуа, назвавших их «дискурсивными регуляторами» (ordenadores de discurso) и квалифицировавших как «избыточные» (expletivas) [Alcina Franch, Blecua, 1988, p. 1014] 5. Особенностью этих лексических единиц является то, что они, будучи кон-ституентами предложения-высказывания, значимостью в его составе не обладают. Это «элементы, лишенные лексического значения и не привносящие дополнительной информации к тексту» [Котов, 2003, с. 48]. Ср., например, с рус. частицей вот, которая используется как опора и образует итеративный по- втор при развертывании высказывания (вот... вот... вот...). Эта функция вот (в отличие от интродуктивно-дейктической, усилительной и выделительной [Бюлер, 1993, c. 85–89]) при переводе не передается. М.А. Мартин Сор-ракино и Х. Портолес Ласаро, констатирующие факт незначительного внимания в грамматиках к лишенным концептуального значения дискурсивным маркерам (marcadores de discurso), тем не менее говорят о возможности выделения у них собирательного значения, складывающегося из конкретных значений связи, аргументации и структурирования информации [Martín Zorraquino, Portolés Lázaro, 1999, p. 4056, 4074], ответственного за создание когерентности как важнейшей составляющей пространства дискурсивной текстуальности.
Наиболее частотным элементом расширения начала высказывания является частица pues , используемая в ответной реплике диалога: ¿No le gusta el libro? – Pues sί ( no ) [Beinhauer, 1985, p. 197] – «Вам не нравится книга? – Ну, нравится / Ну, не нравится» (здесь и далее, если не указано иное, перевод автора статьи. – М. З. ). Противительный союз pero ограничивает или конкретизирует высказанное в первой реплике: Pero , ¿se puede saber qué te pasa...? (Droga, p. 23) – «Но можно узнать, что с тобой происходит?». К глагольным расширителям окончания высказывания относятся вопросительные формулы 2-го л. ед. ч. когнитивных глаголов и глаголов чувственного восприятия saber , ver , comprender , entender : ¡No cojas más cerezas! ¿ sabes ? [Vigara Tauste, 1992, p. 139–140] – «Знаешь, не хватай больше черешни!».
К синтагматическим опорам начала высказывания можно отнести следующие формулы:
– en fin «короче»: En fin , Lorenzo, hasta mañana – «Короче, Лоренсо, до завтра». Эта наречная конкретизирующая форма, имеющая структуру Prep + Sust, представляет компрес-сивный вариант фразеологизма al fin y al cabo «в конце концов» [Vigara Tauste, 1992, p. 117– 118] (см. о ней: [Montolío Durán, 1992]);
– Asί y todo (Adv + Pron) «в общем»: Asί y todo , la gente particularmente los hombres, no le hacίan caso (Camino, p. 163) – «В общем, люди, особенно мужчины, не обращали на него большого внимания»;
– перифразы de todos modos , de cualquier forma , en todo caso «в любом случае», образованные по модели Prep + Pron + Sust, выражают ограничительное значение: En todo caso quiero casarme con Minaya [Díaz Padilla, 1985, p. 124] – «В любом случае хочу выйти замуж за Минайю». Такое же значение выражает и императивная зевгматическая формула с десемантизированным глаголом querer – Quiéralo o no...: Quiéralo o no lo vas a aceptar – «Ты должен принять это по-всякому». Десемантизация обнаруживается и в модели императивного mirar : Mira , yo no sé qué opinаs tú... [Moreno, Tuts, 1991, p. 67] – «Слушай (Пойми), я не знаю, что думаешь об этом ты...» и др.
В качестве формул, завершающих высказывание, как правило, используются синтагмы-присказки, обычно квалифицируемые как «estrebillos y refranes». Ф. Диас Падилья приводит ряд таких единиц. Синтагма с соединительным союзом y + V ind. ( y ya está ) указывает на преодоление каких-нибудь предвиденных и незначительных по мнению говорящего сложностей: Un buen dίa nos levantamos bien temprano... y los matamos a ellos ... Y ya está [Díaz Padilla, 1985, p. 131] – «Однажды раненько встанем... и перебьем их... и готово»; ср. синонимические y tal : Quieres verme casada, con los hijos y tal [Vigara Tauste, 1990a, p. 81] – «Хочешь увидеть меня замужем, с детьми и вообще»; y asί : Es un señor ya mayor, de unos cincuenta y algo años, asί que habla muy pausadito y asί [Díaz Padilla, 1985, p. 294] – «Это уже пожилой господин лет пятидесяти с чем-то лет, и говорит с остановками и вообще»; y eso: Los complejos y eso (Príncipe, p. 86) – «Комплексы и вообще». Акцентуация внимания на сообщении адресанта (autorreafirmación) осуществляется посредством использованием им формулы, компонентами которой являются глагол 1-го л. ед. ч. и постпозиционное местоимение yo (V + Pron). Чаще всего в этом случае используется глагол говорения decir : ¿Son las mismas (niñas)? – No, son otras. Digo yo . Serán otras, digo yo [Vigara Tauste, 1992, p. 138] – «Это те же? – Нет, другие, мне кажется. Должны быть другие, мне кажется».
Наиболее частотной однокомпонентной моделью, расширяющей начало, середину и конец предложения-высказывания, является адъективная единица – присказка bueno: Bueno, es igual [Díaz Padilla, 1985, p. 136] – «Да все равно». То же – «ретардативный» элемент имплицитного повеления vamos (V ind), иногда выражающий отрицательное значение: Vamos, vamos ... Todo el mundo sabe que el Cid era más fiel de todos los maridos [Díaz Padilla, 1985, p. 114] – «Ладно, ладно... Все знают, что Сид был самым верным мужем». Семы движения эта обобщающая форма 1-го л. мн. ч. глагола ir при переводе не передает.
Значительную роль в расширении начала, середины и окончания восклицательного высказывания играют непристойные присказки, выражаемые субстантивными единицами cojones , coño ( s ), hostia ( s ) ( ostras ), leche , ( leñe ), а также глаголом joder ( jolin ) , которые обычно передаются различными эвфемизмами: ¿Qué cojones estás haciendo aquί? (DEM, p. 80–81) – «Какого ляда ты здесь делаешь?»; ¡ Coño , mira quién ha venido! (DEM, p. 91) – «Черт, смотри, кто пришел!»; ¡Átale bien las patas, hostia ! (DEM, p. 142) – «Лапы ему хорошо свяжи, блин!». Ср. также диалогические: ¡ Ostras , qué pellizco me he llevado! – «Черт, как он меня ущипнул!»; ¡Haz lo que te digo, leche ! – «Делай, что я тебе говорю, блин!»; ¡ Leñe , iros a jugar a otra parte! «Черт! Идите играть в другое место!».
Одним из самых частотных синтагматических расширителей начала, конца и середины высказывания является o sea (Conj + V subj) – присказка, не выражающая значения волеизъявления [Vigara Tauste, 1990a, p. 77]: Mi casa es como todas, o sea , distinta – «Мой дом как все дома, в общем, отличается» [Зеликов, 2004, c. 179]. Постановка ее в начале, как правило, вызвано паузой: ... es que hacemos lo que los demás hacen. O sea , debemos hacer lo que a nosotros nos conviene – «...дело в том, что мы делаем то, что делают другие. В общем, мы должны делать то, что нам подходит». Такую же обобщающую функцию в процессе коммуникации реализует формула ( en ) total (Prep + Adv) «в общем», часто употребляемая без предложного компонента: Total , que llegué como pude a casa de mi tίa y me dice... [Vigara Tauste, 1992, p. 250] – «В общем, как мог добрался до дома моей тети, а она мне говорит...»; Cuélgate, total – «Так повесься же!» (шутливое обыгрывание в рекламе английского названия зубной пасты «Colgate total»).
Сравнительная формула с глаголом говорения в условном наклонении и с эксплицированным постпозитивным местоимением 1-го л. ед. ч. (Сonj + V cond + Pron) обычно расширяет середину высказывания: Sί, pero la historia es siempre, como te dirίa yo , falseadora de la realidad [Vigara Tauste, 1992, p. 138] – «Да, но история всегда, я бы сказал тебе, искажает действительность». Местоимение 2-го л. ед. ч. ставится перед глаголом (Pron + V ind): Se muere su hermano, y ella, tú verás , con nueve años más que tiene... [Vigara Tauste, 1992, p. 140] – «Умирает ее брат и она, (ты же) понимаешь, будучи старше меня на девять лет ...». То же – модель ya sabes (Conj + V ind): Pero sί, ya sabes , se oye todo lo que dicen los vecinos [Vigara Tauste, 1992, p. 141] – «Но да, ты же знаешь, слышно все,что говорят соседи», а также формулы, вводимые соединительным союзом y (Сonj + Adv), – y además «и кроме того», y luego «а потом», y demás «то же»: Luego te lo tienes que recordar [Vigara Tauste, 1992, p. 290] – «А потом, ты это обязательно вспомнишь»; ... la gente que va y... los comentarios y demás ... es algo divertido [Vigara Tauste, 1992, p. 292] – «... Люди, которые приходят и... комментарии и потом... нечто забавное». Как можно видеть, отсутствует указание на конкретное время (пространственный параметр Nunc) в двух последних примерах.
Широко представлены в корпусе моделей коммуникативного расширения синтагмы с релятивным местоимением que , которое может функционировать в качестве союза – интродук-тора придаточных предложений, и, по мнению А.М. Вигара Таусте, используется в испанском так часто, что трудно установить шкалу ее значений [Vigara Tauste, 1992, p. 67]. Как показывает анализ материала, содержащегося в многочисленных исследованиях, осуществляющихся со времен Л. Шпитцера, в парадигме граммемы que в современном испанском языке, охватывающей обе стороны ее функционирования – местоимения и союза – можно выделить две основные группы моделей: 1) que в функции заменителя и 2) que в функции расширителя [Зеликов, 2003a, c. 44]. Группу расширяющего que , в свою очередь, составляют грамматические и экспрессивные модели (об их конкретном наполнении см.: [Зеликов, 2003a, c. 44–45]).
В качестве одного из нейтральных дискурсивных маркеров que (парадискурсивный элемент в рамках коммуникативной динамики [Porroche Ballesteros, 1988, p. 231]) используется без каких-либо ограничений, расширяет все фрагменты высказывания. В начале фразы компонент, вводимый que , легко инвертируется. При этом опорный маркер, не обладая собственно лексическим значением, способствует изменению значения высказывания в целом: Que yo te conozco – «Так я тебя знаю» → Yo, que te conozco – «Я, который тебя знает». В этом случае que является интродуктором в функции включения предикативной единицы в состав предложения – que (1) (о ней, как и о функциях релятивизации и пронономина-лизации – que (2) cм.: [Alarcos Llorac, 1970, p. 193–195; Moya Corral, 2004, p. 80–81, 83]). Начальное que сообщает эмфатизирующее значение высказыванию (valor ilativo enfático): Que sί, hombre – «Ну, да...» [Hernández Alonso, 1995, p. 126–127].
Внимание к que как к интродуктуру высказывания было привлечено Л. Шпитцером, назвавшим его «повествовательным» (narrativo) и отметившим эллиптическое опущение глагола говорения: . ..que no lo conocίa nadie ← dicen que... («говорят, что его никто не знал»). О роли verba dicendi в качестве компонентов дискурсивных маркеров с релятивным que свидетельствуют такие формулы, как Сonj + V + que (также способная к расширению начала высказывания): Con decirle que, después que mi padre nos abandonó... [Díaz Padilla, 1985, p. 185] – «Сказать Вам, что после того, как мой отец нас покинул...» – и формула lo que + Pron. Ind. + V, появляющаяся в начале и в конце: Y lo que te digo : porque eso de que la palmas, y se acabó ... No sé (Droga, p. 40) – «И что я тебе скажу, то, что прибьешь ее и кончен бал... Не знаю...».
Формулой дополнительной аргументации, направленной на подчеркивание излагаемого мнения говорящим субъектом, является Ahora que: ... ahora que lo dice ... [Díaz Padilla, 1985, p. 106] – «...a теперь вот он говорит...». То же – для убеждения собеседника: Ahora ves que ... – «Теперь видишь / понимаешь, что...» (без акцентуации внимания на его перцептивных и когнитивных способностях). Наиболее частотны в ряду этих конструкций грам- матизованные императивные восклицательноутвердительные образования с глаголом mirar: ¡Mira que es listo! – «Ну и хитер!», которые, по мнению А. Нарбоны Хименеса, являются исключительно индикаторами начала действия и побудительного значения не содержат [Narbona Jiménez, 1986, p. 253] (подробно см.: [Зеликов, 2005б, c. 131]).
Que , вводящее различные придаточные (nexo subordinante) [Vigara Tauste, 1992, p. 127], используется как средство речевого воздействия на адресата. Ср. «объяснительное» que (explicativo) [Porroche Ballesteros, 1988, p. 237] в придаточных следствия [Narbona Jiménez, 1986, p. 268–272; Hernández Alonso, 2009]: Llámame que te ahorco – «Позвони (мне), не то повешу (тебя)». Эти высказывания являются эллиптическими, и восстановление опущенного протасиса указывает на трансформацию условного придаточного: ...si no me llamas te ahorco [Зеликов, 2005a, c. 290] – «...если не позвонишь, повешу». В высказываниях с изъявительным придаточным типа ¡Pablo! ¡ que me vas a tirar al suelo! (Tusset, p. 18) – «Пабло! Ты же меня уронишь!» опущено главное предложение No ves... («Не видишь...»).
Que в качестве компонента моделей расширения конца высказывания используется в формулах ... que + (si) + N. Ср.: ... que bueno (ее перевод всегда определяется диалогической ситуацией); ...que si tal, que si cual «то, да се»; ...que (si) patatίn, que (si) patatán (соответствует рус. ля – ля – (ля – тополя) и англ. blu – blu – blu). Cр. также ...que + para + Inf: ...que para quedarse atrás = рус. отпад / отпасть можно, также соответствующие исп. «квазиконсекутивному» que te caes. Значительной вариативностью отличаются модели, в которых конектор que вводит глагольное предложение (...que + Frase verbal): Sί, rica; tiene un pastón que es demasiado (Droga, p. 33) – «Да, красотка, у него такие бабки, что вообще...». Как отмечает А. Нарбона Хименес, некоторые выражения, которые появляются после que, превращаются в эмфатические стереотипные клише [Narbona Jiménez, 1986, p. 249]. В числе наиболее частотных – образования с глаголом ver в форме Presente de Subjuntivo: Se lo monta que no veas (Droga, p. 187) – «Он так умеет жить, что вообще ...». В них можно отметить эллиптические опуще- ния, о которых свидетельствует существование полных вариантов. Ср.: ... que no veas cosa igual (Mario, p. 67) – букв. «...чтобы ты не видел подобной вещи».
Граммема que также участвует в образовании моделей отрицательного расширения, имеющего место в процессе перифразирования при трансформации структуры сложносочиненного предложения (паратаксического) в сложноподчиненное (гипотаксическое). Ср. модель por + ( muy ) + Adj + que + Subj, участвующую в образовании придаточных уступительных в предложениях с противительным pero : No la querrá por ( muy ) guapa que sea («Он ее не полюбит, какой бы красивой она ни была») ← Es ( muy ) guapa, pero no la querrá («Она (очень) красивая, но он ее не полюбит»).
-
II. Модели перифразирования ядерных компонентов предложения-высказывания
Расширение структуры простого предложения-высказывания часто осуществляется путем перифразирования его именных, адвербиальных и вербальных компонентов, эксплицирующихся различными аналитическими образованиями. Модели второго типа, в отличие от рассмотренных выше, не относятся к стимуляторам коммуникации, но также могут быть маркированы аффективностью.
К элементам, использующимся при перифразировании субстантивных компонентов высказывания, относятся cosa , señor , tίo ( a ) и некоторые другие, реализующие субстантивную, местоименную, адъективную и адвербиальную функции. Сosa употребляется как собственно существительное («вещь», «дело», «событие» и др.) и как местоимение («нечто», «что-то», «кое-что). Авторы, отмечающие его адвербиальную функцию, частотность употребления cosa объясняют фактором незнакомства говорящего с референтом, неуверенностью в знании значения лексической единицы, тенденцией к языковой экономии и даже небрежностью [Gifre Martinell, 1992, p. 202]. Cр. также cosa в местоименной функции дей-ктического esto : No te preocupes de estas cosas = ...de esto – «Об этом не беспокойся»; в функции неопределенных местоимений todo и algo : ...Alfanhuί le contaba cómo era cada cosa
(Alfanhuí, p. 53) = ...cómo era todo – «Альфа-нуи все ему рассказывал»; Trató de imaginarse cosas que fueran divertidas; pero era imposible... (Alfanhuí, p. 62) = ...algo que fuera divertido / lo que fuera divertido – «Он попытался вообразить себе что-то забавное (ср. без союза que : ...algo divertido / lo divertido ). Сочетание с прилагательным otra ( s ) расширяет высказывание в качестве местоименного компонента: Hablemos de otras cosas = Hablemos de otro – «Поговорим о другом».
Сosa в сочетании с прилагательными gran ( de ), poca , ninguna , стоящими в препозиции, заменяет отрицательное наречие nada : No hemos adelantado gran cosa (Droga, p. 172) = Nо hemos alelantado nada / mucho – «Мы совсем не / не очень-то продвинулись».
Элементы señor , tίo ( a ), cacho , расширяющие субстантивные компоненты предложения-высказывания, способствуют повышению его аффективности, ср.: Es un señor rollo – «Он страшный зануда» (букв. «сеньор-зануда»); tίo ladrón – «ворюга» (букв. «дядя-вор»); tίa furcia – «шлюха, потаскуха» (букв. «тетя-проститутка»); tίa zorra – «шлюха, потаскуха» (букв. «тетя-лиса»). Элемент cacho «кусок, ломоть» также используется для образования эллиптических субстантивных синтагм NS + ( de ) + NS: cacho bobo = рус. кусок идиота .
Наиболее часто в разговорном испанском происходит перифразирование адъективных компонентов, например, по формуле hecho + NS, имеющей, как показано Ф. Диас Падилья, значение прилагательного усиленной аффек-тивности [Díaz Padilla, 1985, p. 239–240]: Me encontró hecha una furia ( enfurecida / encabritada ) – «Она встретила меня страшно разъяренная». В отличие от этих образований релятивные модели que + V аффективными не являются. Количество атрибутивнорелятивных конструкций, функционирующих как прилагательные ( человек , который смеется ; корова, которая смеется ), в испанском постоянно увеличивается. Ср.: El silencio que duele (Grosso, p. 67) = ... doliente – «Болезненное молчание»; El tema que llega = ...eterno – «Вечная тема» (подробно см.: [Зеликов, 2005a, c. 49–50]).
Значительный фрагмент корпуса аналитических моделей составляют синтагмы, имеющие структуру N + prep + N, и в частности генитивные перифразы с предлогом de [Martίnez Álvarez, 1988; Listová, 2005; и др.]. Две разновидности таких образований – атрибутивная и предикативная – в свою очередь могут не только расширять структуру предложения (neutrales), но и иметь оценочно-ин-тенсифицирующее (ponderativas) значение.
К моделям атрибутивной разновидности относятся неаффективные синтагмы, имеющие структуру NS + de + NS: El sol de la mañana (Droga, p. 160) = ... matinal (но не * El sol que tiene la mañana ) – «Утреннее солнце». Модели объектного (объективного) генитива преимущественно являются аффективными [Beinhauer, 1985, p. 323–327; Díaz Padilla, 1985, p. 244; Martίnez Alvarez, 1988], как и структуры de + V: de aquί ( ahί ) te espero и de no te menees , подробно рассматриваемые в [Мед, 2007, c. 180–181]. Весьма заметную роль в разговорном испанском играют атрибутивные перифразы с de , вводящие адъективный элемент и имеющие суперлативное значение (NS + ser / estar + de + Adj), например: La casa es de bonita – «Красивейший дом», – и модели, содержащие большее количество элементов (NS + ser / estar + de + lo ( los , las ) + más + Adj), например: Era una chica de lo más guapa – «Она была одной из самых красивых девочек», в которых можно отметить опущение придаточных сравнительных типа que se puede ( n ) / podrίa ( n ) comparar . Значение превосходной степени может быть выражено и без элемента más : de lo lindo, de lo mejorcito и мн. др., например: Este costo es de lo mejor (Droga, p. 55) – «Этот гашиш самый лучший / наилучший».
Предикативные генитивные перифразы также могут быть нейтральными и аффективными. К нейтральным относятся экзистенциальные и посессивные высказывания, образуемые по следующим моделям: ser + de + NS (для обозначения времени суток): Aún es de dίa = Aún hace dίa – «Еще не вечер»; особенностью перифраз, имеющих структуру NS + de + NS, является их компрессивный характер: расширения не происходит, и следует говорить лишь о синонимических предикативных отношениях: ...ese grandón de la cicatrίz (Goytisolo, p. 32) = ...que tiene la cicatrίz – «...этот верзила со шрамом». Специфическими на фоне большинства романских языков являются и компрессивные образования с de, для которых обязательна предикативная трансформация типа La señora de la patada (Cuentos, p. 162) = La señora a quien le dieron la patada – «Сеньора, которой дали пинок ногой». Ср. также разговорные: La hormiga de la mesa = ... que va por la mesa – «Муравей, ползущий по столу». Ср. также Los años de estudiante, предполагающее не только атрибутивную (= Los años estudiantiles – «Студенческие годы»), но и предикативную (= Los años cuando era estudiante – «Годы, когда был студентом») экспликации. Подобные этим примеры указывают на возможность перехода существительных и определяющих их прилагательных из атрибутивных единиц в предикативные и наоборот. Таким образом выражаются атрибутивно-предикативные отношения, которые выделял еще А.А. Шахматов (подробно о них см. также: [Зеликов, 2005а, c. 47–49]). То же – в предложениях с de, вводящим инфинитив (NS + ... Inf): Siempre me he preguntado cómo hacen para conseguir teléfonos tan fáciles de recordar (Martín, Ribera, p. 100) = ...teléfonos que se recuerdan asί de fácil – «Я всегда спрашивал себя, как они ухитряются приобретать телефоны с такими легко запоминающимися номерами / ...телефоны, номера которых так легко запомнить». Кроме того, не указывают на расширение модели de + Inf, имеющие только предикативное содержание: Esto es de saber = Esto es lo que se debe saber – «Это следует знать»6.
К аффективным предикативным моделям с de относятся партитивные структуры, первым глагольным элементом которых является посессивный глагол tener или стативный estar , – V + de + Adj / Part: Mi espalda que la tengo de escocida (Jarama, p. 38) / ... está de escocida – «Моя спина, она вся обгорела». Ср. также разговорные: Estoy de nerviosa – «Я так нервничаю / изнервничалась» – и V + de + NS: Estoy de periódicos , не расширяющая, но являющаяся синонимической предложениям с tener : Tengo muchisimos periódicos – и эллиптическому: ¡La ( cantidad ) de periódicos que tengo! – «Газет у меня навалом!».
Расширение глагольной составляющей предложения-высказывания всегда нейтральными аналитическими моделями V + NS, пре- имущественное использование их вместо однокомпонентных моделей простого сказуемого составляет одну из идиоэтнических особенностей синтаксиса простого испанского предложения [Agencia Efe..., 1990, p. 49–50; Zélikov, 2007, p. 112–117]. Как показывает материал, содержащийся в исследованиях [Martίn Rodriguéz, 1991; и др.], отличительной чертой подобных образований является объектный статус их глагольных компонентов (echar, coger, dar, hacer, pegar, poner, tener, tomar и др.). Cамым частотным здесь, как и в других западнороманских языках, является агентивный hacer. Ср.: Valentίn echó un largo trago de coñac (Droga, p. 147) = ...tragó un largo trago de coñac – «Валентин сделал большой глоток коньяка»; Has cogido un cabreo como un enano... (Droga, p. 69) = Has encabritado como un enano – «Ты жутко взбеленился»; No habίa manera de hacerse con un buen trago (Droga, p. 204) = ...de hacerse tragar bien – «Совсем нельзя было хорошо поддать»; Vamos a darle tiento (Droga, p. 145) = Vamos a tentarlo – «Давай его пощупаем» и др. В тех случаях, когда первым компонентом являются глаголы субъектного статуса (аndar, estar, ir и др.), конструкция обязательно дополняется предложным элементом (V + prep + NS): andar / ir de copas (vinos, chatos и др.) = beber «пить»; estar en ida (Cid, p. 271) = ir «ехать»; estar de charla = charlar «болтать» и мн. др.
-
III. Модели редупликации
Редупликация (удвоение, геминация) обычно рассматривается как универсальное фономорфологическое явление расширения, состоящее: 1) в двукратном увеличении долготы звука; 2) в повторении буквы на письме для обозначения качества звука; 3) в удвоении начального слога (частичная) или целого корня (полная); 4) в удвоении всего слова (повтор), что является предельным случаем редупликации [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 408] 7. Два первых типа отражают фонетический, а два последних – лексико-грамматический уровень редупликации 8. Образующиеся в процессе речевой деятельности и становящиеся достоянием естественного языка редупликационные
модели – тавтология типа tiene que tener и iba a ir (первая – модальная, вторая – аспектуальная) – не следует квалифицировать как избыточные, так как они всегда обладают значением – грамматическим либо стилистическим (экспрессивным) (об этом см., например: [Maç ′ as, 1984; и др.]), в которых, в свою очередь, также можно выделить два вида – структурный и семантический [Крючкова, 2000, c. 70–71, 74; и др.].
Во многих языках мира, в том числе и в древних индоевропейских, продуктивность того или иного типа редупликации зависела (зависит) от особенностей морфологического строя [Крючкова, 2000, c. 81–82], ср. «удвоение как излюбленное средство эмфазы» при образовании некоторых форм личных местоимений [Семереньи, 1980, c. 232]. Для современных индоевропейских языков использование морфологических средств для редупликации (например, удвоение части корня, отмечавшееся только на древнем этапе их развития [Трубецкой, 1986, c. 56–57]) не характерно. Кроме того, помимо обычных морфологических (ср. murmurar «журчать») и лексических удвоений (см. ниже) их образование происходит в результате трансформации диахронических синтаксических моделей (ср. исп., порт. co ( n ) migo «со мной», представляющее стяжение компонентов cum «с» + mecum (< me + cum ) «со мной»), и следовательно, они должны рассматриваться как феномен мор-фосинтаксиса [Vigara Tauste, 1992]. В полной мере это относится к иберо-романским языкам, и особенно к испанскому [Зеликов, 2009, c. 61–62], в котором можно выделить три типа редупликационных образований. Первый, морфологический (др.-груз. did-did-n-i «очень большой», лат. сe-cini «я спел», ит. farfallа «бабочка», порт. borboleta «то же» и др.), представляющий универсальный тип формообразования в древних и современных языках, исследован довольно хорошо (см.: [Мельчук, 2001, c. 311–315]). Отличительной чертой испанского (по крайней мере при сопоставлении с другими романскими языками) является разнообразие моделей, составляющих два других типа: лексического и синтаксического. К лексическому типу мы относим удвоение одного компонента в составе высказывания, приводящее к образованию словосочетаний
(простая редупликация), к синтаксическому типу относим удвоение нескольких компонентов, способствующее модификации всего высказывания (сложная редупликация). Тем не менее в работах, посвященных исследованию разговорного синтаксиса, эти два типа не различаются. Так, в одном ряду «избыточных» моделей А. Нарбона Хименес рассматривает как синтаксические (ср. синтагмы, построенные на прямом повторе Que sί, que sί ; Vete ya, vete ya ; Párate parado ; Perderse, no se pierden ), так и лексические ( chico-chico , precioso-precioso ) модели [Narbona Jiménez, 1986, p. 245–246, 261]. Аналогично объясняются повторы в статье М.В. Эскандель Видаль: лексические парафразы типа сafé-café и dίas y dίas не отделяются от псевдоимпе-ративной модели с релятивным союзом que : dale que dale [Escandel Vidal, 1991, p. 73–76].
Модели лексической редупликации в испанском языке часто исследуются как стилистическое явление [Гончаренко, 1999; Gabinschi, 2002], возникающее в результате повтора [Верба, 1994; Lamíquiz, 1971], и рассматриваются исключительно как плеонастические [Vigara Tauste, 1992, p. 148–150].
Лексическая редупликация, модели которой составляют значительный фрагмент парадигмы расширения в испанском языке, сосуществует с противопоставленной ей парадигмой сокращения («замедляющая» и «убыстряющая» тенденции В. Байнхауэра [Beinhauer, 1985, p. 1]). Такие модели включают разные виды удвоения: 1) предложные (только субстантивн ые): canción de las canciones «песнь песней», noche a noche «ночь за ночью», «каждую ночь»; 2) бессоюзные (большинство моделей, образующиеся со всеми значимыми компонентами высказывания), к которым относятся субстантивные: ... porque él amigos-amigos no tenίa (Quiñones, p. 39) – «...потому что настоящих друзей у него не было»; адъективные: ... pero lo seguro-seguro es que el oficio no le caίa bien, como me caίa a mί y a otras (Quiñones, p. 166) – «...но, конечно (букв. «верно-верно»), это занятие ей не нравилось, как мне и другим (женщинам)»; адвербиальные: ... y dicen que toca el acordeón pero bien-bien (Quiñones, p. 93) – «...говорят, что она играет на аккордеоне ну очень хорошо»; местоименные: ...y entonces cerré los ojos sin moverme nada-nada un rato grande (Quiñones, p. 124) – «...и тогда я закрыла глаза и долго лежала, совсем-совсем не шевелясь»; личные глагольные: ...una pelίcula ...que te distraes-te distraes ... (Quiñones, p. 22) – «...такой фильм, что ты классно оттягиваешься...»; инфинитивные: ...eso de irse-irse, tambien hay que pensarlo (Quiñones, p. 61) – «...это насчет того, чтобы уехать насовсем, тоже надо обдумать»; причастные: ...esas gomas apretás apretás, que acaba ella ...con los pies ... como los de una muerta (Quiñones, p. 22) – «...эти ну такие тугие резинки, что у нее в итоге ноги были... как у мертвой»; герундиальные: ...se fue por la escalera de la azotea corriendo-corriendo (Quiñones, p. 117) – «...быстро-быстро сбежал по лестнице на крыше»; глагольно-герундиальные: llora-llorando «плачем плачет»; 3) союзные, среди которых отмечаются субстантивные: Hay miradas y miradas – «Смотреть можно по-разному»; La policίa estuvo tiempo y tiempo buscándolo – «Полиция искала его очень долго»9; адъективные: fuerte que fuerte «очень сильный»; адвербиальные: cierto y bien cierto «точнехонько»; личные глагольные: volvίa y volvίa «все возвращался»; инфинитивные: me lίo a sonar y sonar «принимаюсь трезвонить»; герундиальные: iba mirando y mirando «все смотрел и смотрел».
В корпусе моделей синтакcической редупликации в испанском языке можно выделить три основные разновидности: 1) паро-номазийные; 2) анафорические; 3) прагматические.
-
1. Удвоения, построенные по принципу этимологических структур или парономазии, восходят к одному из древнейших предикатно-актантных типов индоевропейского предложения и подразделяются на два подтипа: модели с устраняемым и восстанавливаемым тавтологическим субъектом типа ст.-слав. в 4 трь в 4t ть , рус. гром гремит и др. [Степанов, 1989, c. 57]. Эти модели для испанского языка, как и для других романских языков, не характерны. Более продуктивны образования с устраняемым и восстанавливаемым тавтологическим объектом (внутренним дополнением), известные во всех индоевропейских языках (подробно см.: [Rodrίguez Romalle, 2003; Зеликов, 2009]).
-
2. Модели анафорической редупликации местоименного объекта, хорошо известные во всех западнороманских языках, в испанском являются нормативно-грамматическими образованиями, характеризующими уже самые ранние памятники письменности. Выделяются два типа: а) с правой редупликацией (пониженной экспрессивности): Que se te quite a ti eso de la cabeza (Quiñones, p. 114) – «Пусть это выйдет у тебя из головы»; б) с левой (инверсионной) редупликацией (сохраняющие небольшую экспрессивность): ... a mί me dejen de tonterίas (Quiñones, p. 55) – «...а меня избавьте от глупостей».
-
3. Прагматическую разновидность синтаксической редупликации составляют многочисленные модально-иллокуционные модели, в которых отображаются прагматические особенности структуры предложений по характеру коммуникативной установки и цели высказывания (утвердительные, отрицательные и повелительные).
В числе подобных образований – модели «невольной парономазии», второй компонент которых является инфинитивным дополнением, производным от первого. Ср.: Acabo de acabar [Vigara Tauste, 1992, p. 151] – «Я только что закончил», букв. «заканчиваю заканчивать»; ...cada vez que iba a ir a la Mora (Quiñones, p. 22) – «...каждый раз, когда собирался приехать к Море»; tengo que tenerlo aquί (Quiñones, p. 73) – букв. «я должен иметь его здесь».
Особое место в ряду анафорических моделей редупликации занимают сегментированные конструкции антиципации подлежащих и дополнений, ср. в разговорной речи: Los padres ... ellos sί que tienen motivo – «У родителей... у них действительно есть повод»; ... mi hijo lo tengo puesto dentro de mi corazón – «...мой сын, он у меня в сердце».
Среди утвердительных моделей выделяются именные образования: como guapa es guapa [Vigara Tauste, 1990a, p. 109] – «краси-ва-то она красива»; ...los ricos son los ricos y los pobres son los pobres (Quiñones, p. 73) – «... богатые – это богатые, а бедные – это бедные» – и глагольные образования: leίa sobre leίdo (Mario, p. 41) – «Читал и читал», букв. «читал сверх (про)читанного», которые могут быть представлены деривационным по- втором в форме причастия: ... una onza de nueces frescas, lechosas aún, se ventilan bien ventiladas durante un dίa entero (VPL, p. 71) – «...одна унция свежих орехов, еще молочной спелости, целый день хорошенько проветриваются» – или инфинитива: entender entiendo, pero no hablo [Escandel Vidal, 1991, p. 77] – «понимать понимаю, но не говорю».
Разновидность отрицательных моделей представлена различными комбинациями повтора отрицательных частиц no или ni с вариантами si no , no : ... si no, no , cosa que allί tampoco le pasaba (Quiñones, p. 72) – «...нет так нет, с ним этого тоже не случалось»; si no + V pers + no + V pers + Pron Neg (разновидность эмфазы условного предложения): Si no fuma 20 no fuma ninguno (Mario, p. 242) – «Она курит не меньше пачки в день», букв. «Если она не курит 20 (сигарет), она не курит ни одной»; no ... ni ... ni : ... pero yo a lo mejor no me llevo de aquί ni un marido ni un navajazo (Quiñones, p. 113) – «...но, возможно, я здесь не найду ни мужа, ни удара ножом»; ni ... ni ..., обычно используемая в качестве экспрессивной ответной реплики: ¿Qué le has dicho? – ¡ Ni dicho ni leches! – «Что ты ему сказал? – А ничего, блин, не сказал!»; ni ... ni nada : Ni joven ni vieja ni nada (Quiñones, p. 91) – «Ни молодая, ни старая – никакая»; Sust + ni + Sust: ... pero a mί no me vengan con encanto ni encanto ... (Quiñones, p. 36) « ... но пусть мне не говорят ни о каком разочаровании...»; sin ... ni... : sin dineros ni dineros «без копья», букв. «без денег, ни денег»; que + Sust + ni que + Sust, используемая в ответной реплике и содержащая оттенок раздражения и досады: ¿Sabes lo del Mercado? – ¡ Qué mercado ni que mercado ! – «Знаешь о том, что произошло на рынке? – На каком таком рынке?» (о вариантах этой модели см.: [Зеликов, 2005б, c. 81–85]).
Повелительные модели можно разделить на бессоюзные: Sί te enfadas, enfádate... [Moreno, Tuts, 1991, p. 158] – «Злишься – злись...»; паратаксические: Lo sepas o no (lo sepas)... [Moreno, Tuts, 1991, p. 158] – «Знаешь ты это или не знаешь...»; гипотаксичес-кие: Sea cuando sea, te escriberé [Moreno, Tuts, 1991, p. 158] – «Когда-нибудь напишу тебе»; ...que él gane lo que gane con tos esos bares... (Quiñones, p. 143) – «...пусть себе зарабаты- вает, имея все эти бары...». Особое место среди образований этого типа занимают модели так называемого гиперболического, или герундиального, императива, собственно императивным значением не обладающие. Формирование их осуществляется по двум типам моделей: 1) Imper. + que + (te) + Imper. [Escandel Vidal, 1991, p. 76]: Baila que (te) baila – «А он танцует и танцует»; Еstaba pasea que (te) pasea – «А он все гулял и гулял»; 2) путем удвоения глагола dar: Y ella en cambio dale que dale – «А она все свое и свое (гнет, повторяет, талдычит) (о модификации последней см.: [Зеликов, 2005б, c. 132–133]).
-
IV. Модели синтаксической эмфазы
Модели синтаксической эмфазы (далее – МСЭ) 10, составляющие существенную особенность расширения структуры высказывания западноевропейских (романских, германских и кельтских) языков, до сих не получили удовлетворительного осмысления, изучения и описания в специальных исследованиях. Тем не менее в отечественной испанистике со времени появления учебного пособия Н.Д. Арутюновой, предназначенного, по словам его автора, для «уже знакомых с основами испанской грамматики аспирантов», в котором впервые были рассмотрены представляющие «трудности перевода» эмфатические конструкции [Арутюнова, 1965, c. 83–95], изменилось не многое. МСЭ определялись как «стилистически избыточные» [Канонич, 1979, c. 19] или как «носящие паразитический характер» [Шишкова, Попок, 1989, с. 87]. Исследование их функционирования в целом происходило в рамках обращения к другим вопросам синтаксиса [Рылов, Бессарабова, 1997] либо носило фрагментарный характер [Языки мира..., 2001, с. 451; Кашурникова, 1979; и др.]. В зарубежной испанистике МСЭ (emfatizados, также ремати-зированные, топикализированные, клефтовые (clivados), псевдоклефтовые (pseudoclivados), фокализированные (focalizados) и выделительные (de relieve, destacados) [Vigara Tauste, 1992, p. 76; и др.]), играющие значительную роль в процессе коммуникации «супрасинтаксичес-кие» образования контрастного выделения в структуре высказывания [Дресслер, 1978, c. 112], как и в романистике в целом, преиму-
щественно изучаются в русле проблем интенсификации (экспрессивности и аффективнос-ти) высказывания. Феномен МСЭ, таким образом, не отделяется, как показано Л. Мелу е Абреу, от выражения посредством восклицания, изменения порядка слов, использования интенсивных и избыточных слов, прилагательных и интенсивных числительных [Melo e Abreu, 2001, p. 14]. Это иногда приводит к рассмотрению в одном ряду МСЭ и моделей инверсии (дислокации, топикализации). Ср.: ¿Cuánto tiempo hace usted que está trabajando? (эмфаза сказуемого) – «Сколько же лет Вы работаете?» и ¿Hay absolutamente repeticiones en todas partes? (инверсия наречия) – букв. «Есть ли абсолютно повторы везде?» (вместо «абсолютно везде») [Vigara Tauste, 1992, p. 77]. За пять последних десятилетий в зарубежной романистике появилось много работ по изучению МСЭ, осуществленных в рамках структурно-семантического, прагматического, а также генеративного направлений. В фокусе основного внимания оказались модели расщепления исходной структуры, образующие посредством ее расширения глаголом экзистенции и релятивным компонентом клевтовые и псевдоклефтовые конструкции (англ. cleavage, cleft sentences, фр. clivées, порт. clivagem, ит. scissione, исп. escisión, oraciones escindidas / hendidas). На испанском материале модели рассмотрены в [Bernal, 2001; Sedano, 2010; и др.]. Об их безусловной семантической и прагматической значимости см. в [Fernández Laborans, 1992, p. 239; España Villasante, 1996]; об es que как об инт-родукторе высказывания или дискурсивном маркере см.: [Porroche Ballesteros, 1998]. Согласно И. Боске, вводная формула es que никогда не появляется в абсолютном начале высказывания и всегда связана с предыдущим [Bosque, 1999], то есть следует говорить о ее пресуппозиции. Ранее упомянутые в высказывании процесс или состояние либо имплицированы, либо выражаются анафорическим местоимением eso : El suelo está mojado. – ( Eso ) es que ha llovido [Fernández Leborans, 1992] – «Земля мокрая. – (Это) дело в том, что шел дождь». То же – введением в ответную эмфатическую реплику дубитативного союза si , образующего эмфатико-эллиптическую модель si es que . Ср. также обычное для
разговорного языка инвертирование типа La Universidad, lo que pasa, es que tiene... [Vigara Tauste, 1992, p. 117] ( ← Lo que pasa es que la Universidad tiene ... – «Дело в том, что Университет имеет...». Как считает К. Кербат-Ореккини, эти модели служат для выражения «отрицательной вежливости» (то есть вежливости, носящей отрицательную коннотацию) в процессе ведения диалога [Kerbat-Orecchini, 1992, p. 132]. Особенно важным в рамках исследования вопроса о функционировании эк-зистенционального глагола как основного формообразующего компонента эмфатических моделей расщепления является положение о его статусе не как связочного (ср.: «откровенная связка» [Арутюнова, 1999, c. 461]), а как выделительного, то есть соответствующего ser focalizador в испанских исследованиях (ср.: [Sedano, 2010, p. 39]) . Это соответствует постулируемому Ю.С. Степановым положению о трех глаголах бытия в индоевропейских языках, согласно которому двум связочным противостоит выделительный («эмфатический») [Степанов, 1989, c. 233]. Так, в испанской модели эмфазы именного сказуемого Lo que es es un rajao («Да он просто трепло / Он и есть трепло», букв. «То, что (он) есть, (он) есть трепло») первая глагольная форма является выделительной, а вторая – связочной в исходном предложении Es un rajao . О моделях Х lo que es es... как определительных (especificativos) см. в [Moreno Cabrera, 1982]. То же – в модели с адъективным компонентом: Todos dormidos es como llegaron del viaje los niños (букв. «Сонными приехали из путешествия все дети») ← Los niños llegaron del viaje todos dormidos [Sánchez López, 1996, p. 168].
Как показывает материал, изучаемый начиная с 60-х гг. ХХ в. [Арутюнова, 1965, c. 83–94; 1986; 1999; Зеликов, 1987; 1989; и др.], прагматическому выделению может быть подвергнут любой компонент (эмфаза членов предложения), отдельный фрагмент (эмфаза придаточных предложений) и, наконец, все высказывание (эмфаза простого предложения) 11, которые составляют два основных типа МСЭ испанского языка, образующиеся путем грамматической трансформации исходной структуры. Она осуществляется либо путем расщепления простого предложения, структу- ра которого трансформируется в сложное (образования с релятивным компонентом, указывающие на количественную трансформацию), либо путем субстантивации адъективных компонентов предложения-высказывания. Эта трансформация, которую можно определить как качественную, лежит в основе образования двух разновидностей генитивно-атрибутивных моделей с de: согласованных (el tonto / la tonta de mi amigo / amiga – «этот дурак / эта дура мой / моя друг / подруга») и несогласованных (lo lógico de su(s) proyecto(s) – «логичность его проекта / проектов» и lo inesperado de su(s) pregunta(s) – «неожиданность ее / его вопроса / вопросов») [Olza Zubiri, 1993; Fernández Leborans, 2002–2004]). Несогласованные конструкции второй разновидности используются также для выделения именной части глагольных сказуемых в простых предложениях, трансформирующихся по формуле todo lo + N + que quiera с разновидностями, и в придаточных сложных предложений, то есть в составе релятивизированных (расщепленных) структур. Ср.: Todos saben lo tonto que es Pedro (← ...que Pedro es tonto) – «Все знают, какой дурак / глупый Педро»; Sabίan que la casa era cara («Знали, что дом был дорогой») может быть трансформировано двояко: Sabίan de lo caro de casa u Sabίan de lo cara que era la casa (см. об этом: [Bosque, Moreno, 1990]). О релятивном характере генитивных моделей см.: [Зеликов, 1989, c. 360; 2005а, c. 48–50]. Субстантивация прилагательных при образовании абстрактных понятий, а также при трансформации структур, выражающих предикативную ситуацию МСЭ, составляет одну из характерных черт испанского и астурийского синтаксиса. В отличие от артиклевых форм (ср. исп. el rojo y el negro, аст. el roxo e el negro «красное и черное»), известных и в других романских языках, модели с нейтральным lo (lo rojo / roxo y / e lo negro), по мнению Э. Аларкоса Льорака, выражают какое-либо общее (то есть среднее. – М. З.) качество как совокупность объектов [Alarcos Llorac, 1994, p. 81]. Об этом, а также об особенностях трех других типов моделей с lo, выражающих предикативность в испанском и астурийском, подробно см. в [Зеликов, 2010а, c. 136–138; 2010б, c. 53–59].
Третий тип, который составляют модели расширения без трансформации простого предложения в сложное путем вкрапления в него десемантизированных элементов типа порт. cá , lá , mas é , mesmo , вспомогательного глагола (ср. англ. do ), в испанском не отмечается: отсутствие релятивного компонента во всех случаях объясняется его опущением. Ср.: Ella sί ( que ) es buena ; то же – в предложениях с bien , claro , pero . Восклицательные МСЭ, передающие аффективное утверждение, представляют эллиптические придаточные условные с интродукторами si и cuando : ¡ Si / Cuando dice que tiene razón! «Она же говорит, что он прав!» ← Dice que tiene razón .
Попытка выявления и описания полного корпуса МСЭ была предпринята в [Зеликов, 1987]. Специальные исследования показали, что его многочисленные составляющие необязательно связаны с «эмотивностью», «экспрессивностью», «аффективностью», «интенсивностью» и «квантификативностью», которыми обычно характеризуется «категория эмфазы» (см., например: [Melo e Abreu, 2001, p. 15]). Значительная часть испанских МСЭ (в основном это модели первого типа) стилистически нейтральны и обладают только прагматической значимостью [Вяльяк, 2011, c. 11–12] 12.
Выводы
Как показывает анализ материала, четыре типа моделей расширения структуры предложения-высказывания, выявляемые в современном испанском языке, не должны рассматриваться как избыточные. Выражающие различную степень аффективности и являющиеся грамматическими или стилистическими ресурсами реального «языка в действии», они играют значительную роль в процессе коммуникации.
Список литературы Об исследовании парадигмы расширения в испанистике в работах 1970-2020 годов
- Арутюнова Н. Д., 1965. Трудности перевода с испанского языка на русский. М. : Наука. 121 с.
- Арутюнова Н. Д., 1986. Синтаксическая эмфаза в испанском языке в сравнении с другими романскими языками // Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков. М. : Наука. С. 3-23.
- Арутюнова Н. Д., 1999. Откровенная связка (синтаксическая эмфаза в испанском языке) // Язык и мир человека. М. : Наука. С. 461-480.
- Бюлер К., 1993. Теория языка: репрезентативная функция языка. М. : Прогресс. 501 с.
- Верба Г. Г., 1994. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской разговорной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев. 24 c.
- Вяльяк К. Э., 2011. Выражение коммуникативной организации высказывания лексико-синтак-сическими средствами (на материале испанского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб. 24 c.
- Гаспаров М. Л., 2000. Античная риторика как система // Об античной поэзии : Поэты. Поэтика. Риторика. СПб. : Азбука. С. 424-472.
- Гончаренко С. Ф., 1999. Металогическая информация поэтического текста и перевод // Miscelanea Philologica. СПб. : РГПУ С. 7-15.
- Десницкая А. В., 1985. Я. Гримм о структурных функциях вокалических чередований : (К 200-летию со дня рождения) // Вопросы языкознания. N° 6. С. 3-12.
- Дресслер В. У., 1978. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. № 8. С. 111-137.
- Елизаренкова Т. Я., 1989. «Ригведа» - великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы I-IV. М. : Наука. С. 526-543.
- Зеликов М. В., 1987. Синтаксическая эмфаза в испанском языке : учеб. пособие. Л. : ЛГПИ. 83 с.
- Зеликов М. В., 1989. Типологические и субстратные параллели к синтаксической эмфазе в испанском языке // Известия АН СССР. ОЛЯ. Т. 48, №4. С. 351-364.
- Зеликов М. В., 2003. Функциональная парадигма граммемы que в испанском языке // Романские языки и культуры: история и современность : тез. докл. рос. науч. конф. (Москва, 17-19 дек. 2003 г.). М. : Филол. фак. МГУ. С. 43-45.
- Зеликов М. В., 2004. Парадигма повелительных предложений в испанском языке // Типологические обоснования в грамматике. К 70-летию проф. В. С. Храковского. М. : Знак. С. 174-190.
- Зеликов М. В., 2005а. Компрессия как фактор структуры и функционирования иберо-романских языков. СПб. : СПбГУ. 448 с.
- Зеликов М. В., 2005б. Синтаксис испанского языка. Особенности структуры предложений по характеру коммуникативной установки и цели высказывания. СПб. : КАРО. 304 с.
- Зеликов М. В., 2009. К вопросу о синтаксической редупликации в испанском языке // Актуальные проблемы современного языкознания : сб. ст., посвящ. 80-летию проф. Н.М. Фирсо-вой. М. : РУДН. С. 61-69.
- Зеликов М. В., 2010а. Разновидности субстантивной романской трансформации как феномен закона экономии // Древняя и Новая Романия. Лингвистическое наследие Шарля Балли в XXI веке. СПб. : Филол. фак. СПбГУ С. 127-140.
- Зеликов М. В., 2010б. Структурно-семантические особенности иберо-романских моделей с lo // Памяти профессора Р. Г. Пиотровского : меж-вуз. сб. СПб. : Филол. фак. СПбГУ. С. 51-62.
- Канонич С. И., 1979. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка. М. : Междунар. отношения. 208 с.
- Кашурникова Л. Д., 1979. Об эмоциональном аспекте восклицательных предложений с эмфатическими интродукторами // Грамматическая семантика. Горький : Изд. Горьк. гос. пед. ин-та им. М. Горького. С. 104-109.
- Котов А. Е., 2003. Социокультурные особенности функционирования дискурсивных маркеров // Сборник научных трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. Серия «Гуманитарные науки». Ставрополь : Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т. С. 41-49.
- Крючкова О. Ю., 2000. Редупликация в аспекте языковой типологии // Вопросы языкознания. № 4. С. 68-84.
- Лингвистический энциклопедический словарь, 1990 / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. энцикл. 682 с.
- Мед Н. Г., 2007. Оценочная картина мира в испанской лексике и фразеологии (на материале испанской разговорной речи). СПб. : Изд-во СПбГУ. 235 с.
- Мельчук И. А., 2001. Курс общей морфологии. Т. 4. М. ; Вена : Яз. рус. культуры. 580 с.
- Николаева Т. М., 1978. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс. Вып. 8. С. 5-39.
- Рылов Ю. А., Бессарабова Г. А., 1997. Очерки сопоставительного изучения испанского и русского языков. Воронеж : Изд.-полигр. центр Воронеж. пед. ун-та. 187 с.
- Семереньи О., 1980. Введение в сравнительное языкознание. М. : Прогресс. 407 с.
- Степанов Ю. С., 1989. Индоевропейское предложение. М. : Наука. 247 с.
- Сухачев Н. Л., 2007. О семиотике Ч.С. Пирса : (Тройственный знак в универсуме репрезентаций) // Acta Linguistica Petropolitana. Труды ИЛИ. СПб. : Нестор-История. Т. 3, ч. 2. С. 160-228.
- Трубецкой Н. С., 1986. Избранные труды по филологии. М. : Прогресс. 559 с.
- Шишкова Т. Н., Попок Х.-К. Л., 1989. Стилистика испанского языка. Минск : Вышэйш. шк. 136 с.
- Языки мира. Романские языки, 2001. М. : Academia. 718 с.
- Agencia Efe. Manual de español urgente, 1990. Madrid: Catedra. 272 p.
- Alarcos Llorac E., 1970. Español "que" // Estudios de gramática functional del español. Madrid : Gredos. P. 192-206.
- Alarcos Llorach E., 1994. Gramática de la Lengua Española. Madrid : Espasa-Calpe. 406 p.
- Alcina Franch J., Blecua J. M., 1988. Gramática española. Barcelona : Ariel. 1274 p.
- Beinhauer W., 1985. El español colloquial. Madrid : Gredos. 556 p.
- Bernal M., 2001. Es que... lo que pasa es que...: el papel del conector es que en la regullación conversacional. Un studio en conversaciones políadicas chilenas y españolas. Univesrsidad de Estocolmo. Estocolmo : Univesrsidad de Estocolmo. 264 p.
- Bosque I., Moreno J. C., 1990. Las construcciones con lo y la denotación de lo neutro // Lingüística. № 2. P. 5-50.
- Bosque I., 1999. Sobre la estructura sintáctica de una construcción focalizadora // Boletín de Filología. Vol. 37, núm. 1. P. 207-232.
- Briz Gómez A., 1993. Los conectores pragmáticos en español colloquial (1): su papel argumentativo // Contextos. T. XI. № 21-22. P. 145-188.
- Cortés Rodríguez L., 1991. Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado. Málaga : Editorial Librería Agora . 126 p.
- Desbordes F., 1983. Le schema "Adition, soustraction, mutation, metatheses" dans les textes anciens // Histoir. Épistémologie. Langage. T. 5, fasc. 1. P. 23-30.
- Díaz Padilla F., 1985. El habla colloquial en el teatro de Antonio Gala. Oviedo : Imprenta La Versal. 369 p.
- Escandel Vidal M. V., 1991. Sobre las reduplicaciones léxicas // Lingüística Española Actual. Vol. XIII. P. 71-86.
- España Villasante M. V., 1996. Aspectos semántico-pragmáticos de la costrucción 'es que' en español // DICENDA. Cuadernos de filología Hispánica. № 14. P. 129-147.
- Fernández Leborans M. J., 1992. La oración del tipo: 'es que ...' // Verba. № 19. P. 233-239.
- Fernández Leborans M. J., 2002-2004. Notas sobre la construcción del tipo: el pobre de Pepe // In memoria M. Alvar. Archivo de la Filología Aragonesa. Núm. 59/60, fasc.1. P. 389-404.
- Gabinschi M., 2002. Pluralul nonafixal reduplicative ca procedeu stylistic : (O figura poetica spaniola privita sub raport lingvistic general) // Revista de Lingvistica §i ¡jtinta literara. № 15. P. 94-97.
- Gifre Martinell E., 1991. Algo más sobre "cosa" // Anuario de Lingüística Hispánica. Vol. 7. P. 202.
- Gili y Gaya S., 1968. Curso superior de sintaxis española. La Habana : Ed. Revolucionaria Instituto del Libro. 347 p.
- Hernández Alonso C., 1995. Nueva sintaxis de la lengua española (Sintaxis onomasiológica del contenido a la expression). Universidad de Valladolid : Biblioteca Filológica. 238 p.
- Hernández Alonso C., 2009. De nuevo sobre las llamadas "Oraciones consecutivas" // Anuario de la Lingüística Hispánica. № 25. P. 35-48.
- Hernando Cuadrado L. A., 1988. El español colloquial en "El Jarama". Madrid : Nova Scholar. 153 p.
- Herrero Moreno G., 1994. Realización de la function fática en el español coloquial // Estudios Humanísticos de Filología. № 12. P. 85-104.
- Kerbat-Orecchini C., 1992. Les interactions verbales. P. : Armand Colin. 368 p.
- Lallot J., 1983. L'ellips chez Apollonius Dyscole // Histoire. Epistémologie. Langage. T. 5, fasc. 1. P. 9-16.
- Lamíquiz V, 1971. El superlativo iterativo // Boletín de Filología Hispánica. № 38. P. 15-22.
- Listová O., 2005. Adjetivos relacionales en español: sus equivalentes gramaticales // Estudios Hispánicos. Acta Universitaria Wratislaviensis. № 13. P. 69-80.
- Magas D., 1984. O lugar da palavra repetida no eixo sintagmático em relagao á expressividade da frase // Umgangssprache in der Iberoromania. Tübingen : Gunter Narr. S. 187-196.
- Martín Rodríguez A. M., 1991. La posición structural de "entregar" en el campo semántico de "dar" // Español Actual. № 55. P. 45-53.
- Martín Zorraquino M. A., Portolés Lázaro J., 1999. Los marcadores del discurso // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid : Espasa Calpe. P. 4051-4213.
- Martínez Alvarez J., 1988. El atributo y sus variedades en español // Homenaje a A. Zamora Vicente. Vol. 1. P. 451-457.
- Melo e Abreu L., 2001. Contributo para o estudo das construgoes com clivagem na lingua portuguesa. Helsinki : Annales Academie Scientiarum Fennicae. 179 p.
- Montolío Durán E., 1992. Los conectores discursivos: acerca de "al fin y al cabo" // Lenguajes naturales y lenguajes formales. № 7. P. 453-460.
- Moreno C., Tuts M., 1991. Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. Madrid : SGEL. 344 p.
- Moreno Cabrera J. C., 1982. Atribución, ecuación y especificación: tres aspectos de la semántica de la cópula en español // Revista Española de Lingüística. № 12. P. 229-245.
- Moya Corral J. A., 2004. Tres funciones distintas y un solo / que / verdadero // Verba. № 3. P. 75-101.
- Narbona Jiménez A., 1986. Problemas de sintaxis colloquial andaluza // Revista Española de Lingüística. Año n° 16, fasc. 2. P. 229-275.
- Olza Zubiri J. S. I., 1993. El genitivo subjetivo determinado con predicativo // Thesaurus. T. 48, núm. 1. P. 139-146.
- Porroche Ballesteros M., 1998. Sobre algunos usos de que, si y es que como marcadores discursivos // Los marcadores del discurso. Teoría y análisys. Madrid : Arco Libros. P. 229-242.
- Rodríguez Romalle T.M., 2003. Los objetos cognatos como expression de la manera verbal // Verba. №30. P. 317-340.
- Sánchez López C., 1996. Los pronombres enfáticos y la estructura subeventiva // Verba. № 23. P. 147-175.
- Sedano M., 2010. El verbo ser en las oraciones seudohendidas y con verbo ser focalizador // Nueva Revista de Filología Hispánica. T. 58, núm. 1. P. 39-58.
- Valdés J. de., 1984. Dialogo de la lengua. Barcelona : Plaza & Janés. 252 p.
- Vigara Tauste A. M., 1984. Gramática de la lengua coloquial (algunas observaciones) // Español Actual. № 41. P. 29-38.
- Vigara Tauste A. M., 1990a. Aspectos del español coloquial. Madrid : SGEL. 154 p.
- Vigara Tauste A. M., 1990b. La function fática del lenguaje (con especial atención a la lengua hablada) // Actas de la Sociedad Española de Lingüística. XX Aniversario (Tenerife, 1990). Madrid : Gredos. P. 1088-1097.
- Vigara Tauste A. M., 1992. Morfosintaxis del español colloquial. Madrid : Gredos. 507 p.
- Zélikov M. V., 2007. Problemas clave de la estructura del predicado verbal simple en español moderno // Entre léxico e gramática: en torno al verbo. XIV Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas (Ratisbona, 2003). La Paz : Arelland. AMGD. P. 103-118.
- Alfanhuí - Sánchez Ferlosio R. Alfanhuí. Madrid :
- Anaya, 1979. 229 p. Camino - Delibes M. El camino. Madrid : Alianza Ed. 1983. 224 p.
- Cid - Cantar del mio Cid. Madrid : Espasa-Calpe, 1977. 335 p.
- Cuentos - Cela C. J. Cuentos y novelas cortas. Moscú :
- Progreso, 1975. 299 p. DEM - Martín J. Diccionario de expresiones malsonantes del español. Madrid : ISTMO, 1974. 382 p.
- Droga - Tomás García J. L. de. La otra orilla de la droga.
- Barcelona : Destino. 1984. 363 p. Fernán González - Poema de Fernán González.
- Madrid : Espasa-Calpe, 1970. 232 p. Goytisolo - Goytisolo J. La isla. La Habana :
- Ediciones R., 1962. 169 p. Grosso - Grosso A. El cielo difícilmente azul. Madrid :
- Cátedra, 1978. 254 p. Jarama - Sánches Ferlosio R. El Jarama. Madrid :
- Narrativa actual, 1973. 382 p. Mario - Delibes M. Cinco horas con Mario. Moscú :
- Progreso, 1979. 280 p. Martín, Ribera - Martín A., Ribera J. No pidas sardinas fuera de temporada. Barcelona : Destino, 1987. 192 p.
- Príncipe - Delibes M. El príncipe destronado.
- Barcelona : Destino, 1991. 167 p. Quiñones - Quiñones F. Doce relatos andaluces. La
- Habana : Arte y Literatura, 1989. 200 p. Tusset - Tusset P. Lo mejor que le puede pasar a un cruasán. Madrid : Punto de Lectura, 2006. 438 p. VPL - Cela C. J. Viaje al Pirineo de Lérida. Barcelona : Noguer, 1973. 249 p.