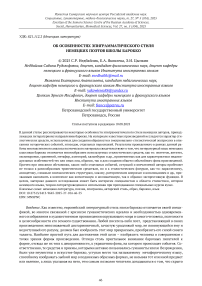Об особенностях эпиграмматического стиля немецких поэтов школы барокко
Автор: Недбайлик С.Р., Яковлева Е.А., Цыпкин Э.И.
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 5 (104) т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются некоторые особенности эпиграмматического стиля немецких авторов, принадлежащих литературному направлению барокко. На материале известных произведений исследуется характер стилистических средств, используемых для создания образности и эмоциональностилистической экспрессии в описаниях исторических событий, эпизодов, отдельных персонажей. Результаты проведенного в рамках данной работы многоаспектного анализа поэтического материала свидетельствуют о том, что литературный язык немецких классиков барокко отличается многообразием используемых стилистических средств, как то: эпитетов, антитез, оксюморонов, сравнений, метафор, аллегорий, каламбуров и др., применяемых как для характеристики индивидуальных особенностей тех или иных лиц, образов, так и для создания общего событийного фона произведений. Причем при описании обстановки, какихлибо отдельных событий, ситуаций и впечатлений авторы прибегают не только к разнообразным тропеическим средствам, но и к стилистическим фигурам, както: параллелизму, асиндетону, сложным синтаксическим структурам, хиазму, риторическим вопросам и восклицаниям и др., призванным выполнять в комплексе как когнитивную и номинативную, так и образноэкспрессивную функции. В целом, материал данного исследования может быть интересен специалистам в области стилистики, истории немецкого языка, теории литературоведения и использован при преподавании специальных курсов вузах.
Немецкая литература, поэзия, эпиграмма, авторский стиль, образ, барокко, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/148332373
IDR: 148332373 | УДК: 821.112.2 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-104-46-55
Текст научной статьи Об особенностях эпиграмматического стиля немецких поэтов школы барокко
EDN: MNXPNC
Введение. Как известно, европейский литературный стиль эпохи барокко отличается своей спецификой, во многом связанной с кризисом гуманистических идеалов и необходимостью одновременного изображения в художественном произведении окружающего мира и самого человека, полезности и целесообразности его земного существования. Любой писатель либо поэт, представляющий в своих произведениях непознаваемый дисгармоничный, зачастую уродливый мир, не повинующийся ему и недоступный его разуму, должен был изобразить этот мир прекрасным, преобразить его силой своего таланта. Наиболее простой путь для достижения этой цели – изобразить человека в совершенном с точки зрения формы произведении. Отсюда столь пристальное внимание барочных писателей к форме, отсюда же их тяга к декоративности, к украшению фона, на котором происходят события. Соответственно, те средства и приемы, которыми активно пользовались гуманисты эпохи Возрождения, были уже неуместны в искусстве барокко, уступая место так называемому метафорическому языку, способному изображать зыбкий мир в подвижных образных формах, не называя тот или иной предмет или явление, а лишь указывая на него, тем самым позволяя читателю догадываться о том, что скрыто за символической оболочкой. В этой связи многие авторы прибегали к таким тропам и риторическим фигурам, как гротеск, гипербола, антитеза, параллелизм, риторические обращения и др., позволяющим усилить как саму образность, так и эмоциональное впечатление от произведения. Барочные поэты наряду с писателями включали в свои творения хорошо известные мотивы и сюжеты, прибегая к вариациям, реинтерпретациям, переложениям, предлагая новые, зачастую неожиданные решения и выводы. Они стремились доказать своим творчеством, что в мире нет очевидных истин, что все может превратиться в свою противоположность.
Методы исследования. В данной работе мы проводим комплексный сравнительный литературоведческий, стилистический анализ текстов в авторстве известных немецких поэтов барокко, что позволяет выявить основные особенности их творческого стиля и языка.
История вопроса . Нетрудно предположить, что в немецкой литературной традиции эпохи барокко эпиграмма воспринимается в своей риторической разновидности, в соответствии с формулой Ж.С. Скалигера («aut ex propositis aliquid deducens»), т. е. как «epigramma composita», имеющая двухчастную структуру «propositio – conclusio» («посылка – заключение» – лат .) [Сидоров А.Г., с. 215], что абсолютно не соответствует ее «романскому» пониманию как простого анекдота или так называемого «bon mot» («доброго словечка») в рифму. Это можно проиллюстрировать на примере эпиграмматического двустишия известного автора «Золотого века» («Güldene Zeit») В. Лёбера (1620–1685):
«Wie kommt es/ daß man dieß die güldnen Zeiten nennet/
Da niemand noch das Gold/ der Berge Marck/ gekennet?» [Dietze A., Dietze W., s. 148].
«Ни золота никто, ни гор златых не знает, –
За что же «золотым» все век наш называют?» [Гинзбург Л.В., с. 126].
Причем возникающий при подобной трактовке эпиграммы двучлен логического характера неизбежно сближает ее с силлогизмом. Сама тенденция теоретиков литературы рассматривать эпиграмму как разновидность неполного силлогизма восходит к концепции итальянского писателя-иезуита Э. Тезауро (1592–1675), изложенной в работе «Подзорная труба Аристотеля» («II Cannocchiale Aristotelico», 1654–1670), в которой автор ведет речь «…об изящных энтимемах, т. е. о наивысшем остроумии… Таковы концовки эпиграмм…» [Сидоров А.Г., с. 149]. В свою очередь, немецкий историк литературы Д. Г. Морхоф (1639–1691) в своем исследовании «Учение о немецком языке и поэзии» («Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie») говорит о том, что «…эпиграммы бывают… простыми и тезисными. Причем если у первых вся «соль» заключена в одном или двух дистихах, то вторые подобны энтимеме из двух предложений» («Ein Epigramma ist… einfach oder Circumscriptum. Jenes ist/ wenn nur ein acumen in einem oder zweien distichis ist. Dieses ist wie ein Enthymema auß 2 Sätzen») [Dietze A., Dietze W., s. 164]. Вполне очевидно, что подобные эпиграмматические «вирши», трансформированные в логический двучлен, можно воспринимать как своеобразный инструмент логико-интеллектуального анализа действительности, во многом построенного на игре контрастов.
Говоря о направлениях развития эпиграмматического жанра в западноевропейской, в том числе немецкоязычной барочной литературе позднего средневековья и пост-средневековья, можно назвать несколько основных ее трендов. Во-первых, речь идёт о бытовой эпиграмме, осмеивающей мнимую честность и пустословие судей, адвокатов, ханжество монахов, шарлатанство врачей, кичливость новоиспеченных нуворишей и т. д. [Сидоров А.Г., с. 167]. Во многом эти темы пришли из предыдущих столетий, как и соответствующие им формы приверженцев стиля французского поэта эпохи Возрождения К. Маро. Во-вторых, это эпиграмма социально-политическая. Поскольку данная эпоха была веком ожесточенной борьбы, продолжительных войн и народных бунтов, на все эти события поэты откликались быстро, смело, остроумно, причем некоторые литературные формы стали предметом самого широкого общественного интереса. Вполне очевидно, что в этот ряд попала и эпиграмма. Ни одно вызывавшее интерес литературное произведение эпохи, будь то роман, поэма или трагедия, не оставалось без эпиграмматического вступления. Необходимо упомянуть также и о так называемой философской эпиграмматике, в которой широко представлены общие темы жизни и смерти, мотивы бренности и суетности земного существования, столкновения сил добра и зла, телесного и духовного начал и т. д.
Большой интерес в этой связи представляют работы представителей первой Силезской поэтической школы, которых часто приравнивают по масштабу творчества к античным греческим и римским классическим авторам и, в первую очередь, М. Опица (1597–1639), по праву называемого отцом немецкой барочной поэзии. Его знаменитый сборник «Немецкие стихотворения» («Martini Opitii Teutsche Poemata») [Сидоров А.Г., с. 134], включающий шестьдесят восемь произведений, стал воистину исторической вехой, отметившей рождение немецкой литературной эпиграммы (1624 г.), причем некоторые из них написаны стихотворными размерами новой силлабо-тонической системы, введенной М. Опицем в «Книге о немецком стихосложении» («Buch von der Deutschen Poeterey») [Сидоров А.Г., с.126], – главным образом, различными видами ямба. Среди них можно отметить как переложения эпиграмм античных (Платона, Анакреонта, Дионисия Катона) и ренессансных (М.А. Мюре, Ж.С. Скалигера) поэтов, так и произведения самого автора. Таким образом, именно М. Опиц дал в своем творчестве первые образцы литературной эпиграммы на национальном языке:
Grabschrifft eines Hundts
«Die Diebe lieff ich an/ den Buhlern schwig ich stille/
So ward vollbracht deß Herrn und auch der Frawen Wille» [Opitz M., s. 134].
Эпитафия цепного пса
«Воров встречал я лаем, хлыщей пускал утайкой:
Так волю я исполнил хозяина с хозяйкой» [Гинзбург Л.В., c. 127].
В соответствии с традицией этого времени, эпиграмма заимствовала целый ряд фигур, выполнявших в функцию стилистического усиления основной авторской мысли [Лотман Ю.М., с. 148]. Так, одним из стилистических приемов, соответствующих духу барокко в силу присущей ему идеи двойственности и противоречивости бытия, является антитеза, реализуемая на различных уровнях: лексическом, лексико-семантическом, семантическом. Само использование этой фигуры как «формы антитетического мироощущения» в эпиграммах восходит к аристотелевской «Риторике» [Лотман Ю.М., с. 195]. Так, например, в двустишии известного поэта и переводчика Г. Грефлингера (ок. 1620–1677) «Смерть» («Der Tod») антитеза представлена в обоих стихах в виде противопоставления полустиший:
«Ein Böser hasst den Tod/ ein Frommer wündschet ihn/
Er ist des Bösen Pein/ des Frommen sein Gewinn» [Lessing G.E., s. 183].
«Злой ненавидит смерть, – а добрый ждет в терпенье:
Ведь та злодеям – казнь, святым – вознагражденье» [Гинзбург Л.В., с. 125].
Еще одним значимым стилевым и композиционным приемом, широко используемым в стихотворчестве того времени, является параллелизм (parallelismus membrorum), что можно проиллюстрировать эпиграммой немецкого автора Г.Р. Векерлина (1584–1653) «На г-на Гордеца» («An Herren Hochdran»):
«Allein hast du vil kleider/ ring/ gold/ gelt/ Allein hast du hauß/ gärten/ weinberg/ wissen/ Allein hast du fremd und lust in der Welt/ Allein hast du ein haupt sehr hoch-geprisen/ Allein hast du auch einen starcken Leib/
Allein hast du doch nicht dein hipsches Weib» [Lessing G.E., s. 174].
«Лишь у тебя полно одежд, монет;
Лишь у тебя есть дом, и сад, и пашни;
Лишь у тебя довольств исполнен свет;
Лишь у тебя взор с гордостью всегдашней;
Лишь у тебя стать силою полна;
Лишь у тебя, – одна на всех, – жена» [Гинзбург Л.В., с. 136].
Широкое использование риторических фигур в качестве средства создания образности является характерной особенностью творчества и двух знаменитых силезцев – классика немецкой эпиграмматики Ф. фон Логау (1605–1655), создателя монументального собрания эпиграмм и стихотворений «Три тысячи немецких рифмованных речений Соломона из Голау» («Salomons von Golaw Deutscher Sinn = Getichte Drey Tausend», 1654) [Dietze A., Dietze W., s. 178], а также религиозно-мистического поэта И. Шеффлера, более известного как Ангелус Силезиус (1624–1677), автора книги духовных эпиграмм «Херувимский странник» («Cherubinischer Wandersmann») [Dietze A., Dietze W.]. Так, по выражению швейцарского исследователя Э. Эрматингера (1873–1953), «... меткая антитетика есть почва, на которой произрастают великолепные «Эпиграммы» Ф. фон Логау и «Остроумные речения и вирши» «Херувимского странника» [Ermatinger, E., s. 169]. В приводимом ниже четверостишии Ф. фон Логау «Последователи Христа» («Die Nachfolge Christi») оба вышеупомянутых риторических приема использованы одновременно – в выделенных курсивом 2-м и 3-м стихах антитеза имеет место внутри параллелизма:
«Es ist ein schlechtes Ding/ dahin mit Christus gehen/
Wo Wein an Wassers stat muß in den Krügen stehen:
Wo Blut an Schweisses stat von ihm zur Erde fällt/
Da lob ich den alsdann/ der stand bey Christus halt» [Dietze A., Dietze W., s. 189].
«Не следует туда нам за Христом стремиться, Где стать должна вином обычная водица;
Где ж кровью должен стать с чела бегущий пот, –
Там каждого хвалю, кто за Христом идет» [Гинзбург Л.В., с. 137].
Приведем еще несколько примеров эпиграмматических произведений Ф. фон Логау в переводе на русский язык:
Отважная честность
«Что значит в наши дни быть баснословно смелым? –
Звать черным черное, а белое звать белым, Чрезмерно громких од убийству не слагать, Лгать только по нужде, а без нужды не лгать» [Гинзбург Л.В., с. 148].
Стыдливый век
«Наш славный век – венец времен –
Своей стыдливостью силен:
Бежит он, как от прокаженной,
При виде правды обнаженной» [Гинзбург Л.В., с. 139].
Война и мир
«Война – всегда война. Ей трудно быть иною.
Куда опасней мир, коль он чреват войною» [Гинзбург Л.В., с. 149].
Наставление
«Как должен жить твой сын, мужчиной стать готовясь?
Сначала стыд забыть, затем отбросить совесть,
Лишь самого себя считать за человека –
И вырастет твой сын достойным сыном века» [Гинзбург Л.В., c. 126].
Житейская мудрость
«Быть одним, другим казаться,
Лишний раз глухим сказаться,
Злых, как добрых, славословить,
Ничему не прекословить,
Притворяться, лицемерить,
В то, во что не веришь, – верить,
Чтоб не влипнуть в передряги,
О своем лишь печься благе, –
И, хоть время наше бурно,
Сможешь жизнь прожить недурно» [Гинзбург Л.В., с. 136].
Вполне очевидно, что иронический подтекст в этих примерах создается автором за счет использования таких стилистических приемов, как: каламбур, построенный на игре слов, метафора и неизменная антитеза. В духовно-мистических эпиграммах А. Силезиуса прием противопоставления также используется довольно широко, в том числе на семантическом уровне. В качестве примера можно привести двустишие «Бог неуловим» («Gott ergreifft man nicht»):
«Gott ist ein lauter nichts/ Ihn rührt kein Nun noch Hier:
Je mehr du nach Ihm greiffst / je mehr entwird Er dir [Silesius A., s. 224].
«Бог – Сущее Ничто, времен и мест не знает;
Сколь ни стремись за Ним, – все дальше ускользает» [Гинзбург Л.В., с. 143].
Что касается эпиграммы логического (энтимематического) характера, то ее характерным воплощением является известное стихотворение Ф. фон Логау «Узаконенное насилие» («Gewalt für Recht»), структура которого отвечает условиям неполного силлогизма: первый стих – большая посылка, второй – малая, а вывод находится за рамками стихотворения, что реализуется за счет использования приема синтаксического параллелизма:
«Gewonheit wird Gebot/ durch Brauch und lange Zeit:
Krieg/ hat durch dreissig Jahr/ Gewalt in Recht gefreyt» [Logau F. von, s. 111].
«В чем встарь обычай был, – законом позже стало.
Насилье тридцать лет война в закон вменяла» [Гинзбург Л.В., с. 145].
Вышеназванные риторические фигуры – антитеза и параллелизм – выполняют в немецкой поэзии XVII века, в особенности эпиграмматической, эстетическую функцию, связанную с принципом так называемого «барочного остроумия» («argutia») [Новожилов М.А., с. 167]. В этой связи следует упомянуть и о третьем значимом риторическом приеме поэтики барокко, выражающемся в парадоксальном «соединении несоединимого» («discordia concors»), т. е. об оксюмороне [Лотман Ю.М., с. 98]. Именно на основе сближения далеких друг от друга образов, понятий, идей или свойств одного или нескольких предметов достигается эффект неожиданности, посредством чего обнаруживаются новые стороны хорошо известных вещей. Одним из наиболее ярких примеров использования этого приема является эпиграмма Ф. фон Логау «Седина» («Graue Haare»), в которой соединение образов «сена» и «седины» создает противоречивую картину жизни и смерти:
«Wann graues Haar dir wächst/ sprich: Hew wird dieses seyn/
Das auff dem Kirchhoff nechst/ der Tod wird sammlen ein» [Logau F. von, с. 171].
«Скажи, заметив проседь: мне время сено шлет,
Что скоро на погосте смерть в холмик соберет» [Гинзбург Л.В., c. 146].
Наконец стоит упомянуть об еще одной фигуре, восходящей к греческим поэтикам I в. до н.э., также нередко встречающейся в немецких эпиграммах XVII в., а именно о хиазме (др.-греч. χιασμός: уподобление греческой букве χ) – крестообразном расположении элементов, которое в эпиграмматике выражается во взаимном «отражении» полустиший по цезуре [Лотман Ю.М., с. 167]. Так, в эпиграмме А. Силезиуса «Я делаю то же, что и Бог» («Jch thue es Gott gleich») прием хиазма употреблен в первом стихе:
«Gоtt liebt mich über sich: Lieb ich Ihn über mich ;
So geb ich Ihm sovil/ als Er mir gibt auß sich» [Hartung M., s. 146].
«Бог полн любви ко мне; я полн любви к Нему :
Что воздает мне Он, – я воздаю Ему» [Гинзбург Л.В., с. 126].
С другой стороны, в подчеркнуто риторическом двустишии Ф. фон Логау «Смерть и сон» («Tod und Schlaf») фигура хиазма использована в обоих стихах:
«Tod/ ist ein langer Schlaf; Schlaf/ ist ein kurtzer Tod/
Die Noth die lindert der/ und jener tilgt die Noth» [Logau F. von, s. 117].
«Смерть – это долгий сон; сон – краткой смерти время;
Нужду смягчает сон, – смерть снимет это бремя» [Гинзбург Л.В., c. 136].
Та же закономерность построения имеет место и в других стихотворных изречениях автора, известных читателю в переводах Л.В. Гинзбурга:
«Ты смотришь в небеса? Иль ты забыл о том,
Что бог – не в небесах, а здесь, в тебе самом?» [Гинзбург Л.В., с. 116].
«Нет в мире ничего чудесней человека:
В нем бог и сатана соседствуют от века» [Гинзбург Л.В., с. 113].
«Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто, но что он без меня ?!» [Гинзбург Л.В., с. 121].
«Неутомимо то, что Господом зовут:
Его покой – в труде, в его покое – труд» [Гинзбург Л.В., с. 134].
В эпоху Просвещения, с ее отрицанием барокко и его риторики, утверждавшей приоритет рационализма, поэтика эпиграммы вернулась к ренессансному дискурсивному канону, который и продолжил свое существование в последовавшую эпоху романтизма, сохранившись вплоть до наших дней [Lessing G.E., s. 198]. Что касается традиции перевода барочных эпиграмм в российской литературе в целом, то она, как правило, не признает риторической специфики, идя прямиком к ренессансной эпиграмме, лишенной композиционной сложности произведений XVII в. и воспринимающей пуант как банальную остроту или даже каламбур [Доронин Ю.В., с. 186]. В силу этого «переводы» эпиграмм немецких, равно как и других западных поэтов, созданные отечественными мастерами слова, зачастую приближены либо к стилю С.Я. Маршака (в лучшем случае), либо к стилю «ширпотребного» российского сатирического журнала «Крокодил», популярного в 1970-1980-е гг. прошлого столетия. Таковы, к примеру, переводы эпиграммы Ф. фон Логау «Kriegen», выполненные одним из «крокодиль-ских» авторов, поэтом-сатириком Н. Я. Энтелисом (1927–2017), а также стихотворения М.Д. Омайса «Welt, gute Nacht!», сделанные известным советским и российским поэтом, писателем Д.И. Хармсом:
Kriegen
Schlechte Kunst ist Krieg erwecken:
Schwere Last ist/ Krieg erstrecken:
Grosse Kunst ist/ Krieg erstecken [Logau F. von, s. 143].
Войны
«Венец искусства.
Не надо искусства – войну развязать,
Но нужно искусство – войну продолжать.
Искусство немалое – выиграть бой...
Вершина искусства – покончить с войной!» [Ermatinger E., s. 128].
Welt, gute Nacht!
«Es ist nun aus mit meinem Leben,
Got
Kein Tropflein mehr ist in dem Fass.
Es will kein Funklein mehr verfangen.
Das Lebenslicht ist ausgegangen;
Kein Körnlein mehr ist in dem Glas.
Nun ist es aus; es is volbracht.
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!» [Hartung M., s. 119].
***
«Пришел конец. И гаснет сила.
Меня зовет моя могила.
И жизни вдруг потерян след.
Все тише сердце бьется,
Как туча смерть ко мне несется,
И гаснет в небе солнца свет.
Я вижу смерть. Мне жить нельзя.
Земля, прощай! Прощай, земля!» [Hartung M., s. 123].
Как очевидно, размер стихотворения – четырехстопный ямб, типичный для барочных произведений, полностью перенят Д.И. Хармсом, равно как и простая структура рифмы. Сама тема задается в первых двух строках, в последующих четырех возникают аллегорические картины, в то время как конец восходит к началу стихотворения и выливается в громогласное обращение к миру. Причем аллегорические картины средней части глубоко традиционны, в особенности, представление о «Свете жизни» («Lebenslicht») и «Песочных часах» (подстрочный перевод: «Уже ни капли в бочке, / Уже никакая искра не хочет зажечь огня, / Свет жизни погас, / Уже ни песчинки в стекле…») как о символе проходимости человеческого существования, и сохранились в качестве фразеологических элементов до наших дней [Hartung M., s. 146].
При переводе текста стихотворения Д.И. Хармс, лишь внешне перенимая структурный рисунок, устраняет на тематико-образном уровне его трехчастность и полностью игнорирует аллегоричность, а поэтому неизбежно утрачивается его изначальная функциональность. Кроме того, переводчик нарушает принцип параллельного построения оригинала, каждая строфа средней части которого содержит аллегорию. Таким образом, устраняется сам дух барочности стихотворения, которое в данной интерпретации не подчиняется ни в формах, ни в образах формальному канону [Сидоров А.Г., с. 125]. В прочтении Д.И. Хармса стихотворение становится не только «лиричнее», но и трагичнее: несмотря на невозмутимость тона, исчезает представление о смерти как о естественном возвращении к Богу. Пессимистическое звучание перевода еще более подчеркивается одной немаловажной деталью – отсутствием Бога. Вторая строчка М.Д. Омайса «Бог дал, Бог взял» в переводе Д.И. Хармса звучит, как: «Меня зовет к себе могила», что превращает молитву оригинала в литературное произведение автобиографического, бытового характера [Hartung M., s. 134]. Вполне очевидно, что для избегания подобной деформации авторских текстов при переводе немецкой литературной эпиграммы XVII в. необходимо учитывать в полной мере ее специфические стилистические особенности. Причем речь идет не о буквалистском следовании оригиналу, а о том, что эти черты имеют для данного жанра принципиальное значение, являясь несущими элементами его архитектоники и определяющими стилевыми признаками, изменение или удаление которых неизбежно приводит к искажению жанрового характера произведения.
Выводы. Нетрудно предположить, что в целом поэтическая школа барокко XVII и раннего XVIII вв. не создала единого и полного эпиграмматического канона как такового: сам жанр всё ещё оставался в большой степени формально периферийным и не «делал» литературу, лишь содействуя ее дальнейшему становлению и развитию. В то же время западноевропейская и, в частности, немецкая классическая эпиграмма – как бытовая, так и социально-политическая – во многом сформировала общественное и литературоведческое мнение, оказав значительное влияние на вкусы как авторов, переводчиков, критиков, так и самих читателей, что вполне объяснимо. Ведь она не была отгорожена от других малых и больших, в том числе стихотворных и сатирических жанров, непреодолимой стеной – постоянно и тесно соприкасалась с ними, неизбежно перенимая характерные черты их стиля. Характерными особенностями немецкой барочной поэзии, в том числе эпиграмматической, можно назвать совершенство и разнообразие метрических и строфических форм, искусное владение ритмом, музыкальность, стилистическую, образную насыщенность, остроту слова. Соединяя в себе духовно-божественное и материальное начала, она неизбежно отражает в себе сложность и противоречивость человеческой психологии, души, одолеваемой постоянной борьбой сил добра и зла.