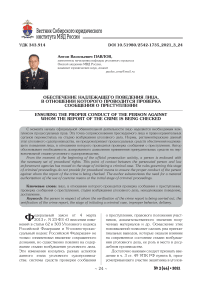Обеспечение надлежащего поведения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении
Автор: Павлов А.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (44), 2021 года.
Бесплатный доступ
С момента начала официальной обвинительной деятельности лицо наделяется необходимым комплексом процессуальных прав. Эта точка соприкосновения преследуемого лица и правоохранительных органов переместилась на стадию возбуждения уголовного дела. Нормы, регламентирующие данный этап уголовного судопроизводства, не предусматривают процессуальных средств обеспечения надлежащего поведения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступления. Автор обосновывает необходимость дозированного дозволения применения принудительных средств на первоначальной стадии уголовного судопроизводства.
Лицо в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, проверка сообщения о преступления, стадия возбуждения уголовного дела, ненадлежащее поведение, доставление
Короткий адрес: https://sciup.org/140290399
IDR: 140290399 | УДК: 343.914 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_3_24
Текст научной статьи Обеспечение надлежащего поведения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении
Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» не только ознаменовал введение сокращенного дознания, но существенно повлиял на содержание стадии возбуждения уголовного дела. Эти изменения коснулись разных аспектов данного этапа уголовного судопроизводства: системы средств проверки сообщения о преступлении, правового положения участников, доказательственного значения полученных материалов и др. Осмысление этих нововведений позволяет сделать ряд принципиальных выводов, которые оказали влияние на современное состояние стадии возбуждения уголовного дела, ее роль и место в досудебном производстве.
Достаточно важным следует признать введение в ч. 3 ст. 49 УПК РФ пункта 6, предусматривающего участие защитника в уголов-

ном деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Обращение к положениям п. 58 ст. 5 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, несмотря на то что оно не упоминается в разделе 2 УПК РФ, является участником уголовного судопроизводства. Выяснение его правового положения следует начать с определения фактических и юридических оснований наделения его соответствующим статусом.
Данный участник вступает в правоотношения с момента проведения в отношении него процессуальных действий и принятия процессуальных решений, затрагивающих его интересы. Первоначальные сведения о причастности лица к совершенному противоправному деянию могут содержаться в заявлении о преступлении, в котором указано конкретное лицо, быть получены при обращении лица с явкой с повинной, в отношении лица могло проводиться оперативно-розыскное мероприятие (проверочная закупка, оперативный эксперимент), лицо могло быть схвачено в момент совершения преступления и др. Каждый из названных примеров характеризуется определенной совокупностью данных, указывающих на причастность конкретного лица к совершенному деянию. Эти сведения образуют основания для производства в отношении него проверочных действий. Итогом процессуальной деятельности является констатация в постановлении о возбуждении уголовного дела наличия признаков преступления и начала уголовного преследования по подозрению в совершении преступления. Подозрение не возникает одномоментно, оно формируется по мере получения следователем изобличающих сведений. Важно своевременно решить вопрос о наделении преследуемого лица необходимым комплексом прав, чтобы оно получило возможность противостоять обвинительной деятельности. В юридической литературе предлагается наделять данное лицо еще на стадии возбуждения уголовного дела статусом подозреваемого посредством его уведомления о подозрении [5, с. 30-31; 6, с. 95, 98]. Данный шаг, полагают авторы, позволит решить проблему расширения перечня оснований для признания лица подозреваемым [6, с. 100].
Подобный вариант, на наш взгляд, не позволяет выделить качественно новый этап обвинительной деятельности, предшествующий уголовному преследования по подозрению. Его уместно использовать в ситуации, когда органы расследования обладают достаточными сведениями о причастности лица к совершенному правонарушению. Кроме того, формирование правового статуса подозреваемого на данном этапе обостряет проблему признания права преследуемого лица на реабилитацию. Итогом проверки сообщения о преступлении в отношении лица является решение о возбуждении уголовного дела, в котором констатируется начало уголовного преследования по подозрению. Именно с этого момента подозреваемый наделяется правом на реабилитацию. Предшествующая обвинительная деятельность была направлена на обоснование подозрения, в условиях неопределенности этот первоначальный контакт лица и правоохранительных органов реализуется посредством проверки имеющейся информации. Наличие отдельных элементов обвинительной деятельности, имеющих место на стадии возбуждения уголовного дела, не должно формировать оснований для реабилитации. Данный вывод обусловлен незначительной интенсивностью обвинительной деятельности (ограниченность в производстве следственных действий, запрет на применение мер процессуального принуждения), а также ознаменованием ее начала интересами самого преследуемого лица.
Мы полагаем, что момент начала обвинительной деятельности следует связывать с наличием изобличающих лицо в совершении преступления фактических данных для производства в отношении него процессуальных действий. В этом подходе проявляется отличие оснований для постановки лица в статус подозреваемого и лица, в отношении которо-

Вестник Сибирского юридического института МВД России
го проводится проверка сообщения о преступлении. Если в первом случае востребована совокупность данных для постановки лица в статус подозреваемого, то во втором случае достаточно того, что имеются сведения для производства процессуального действия в отношении данного лица.
В УПК РФ не предусмотрен процессуальный документ, которым констатируется начало обвинительной деятельности в ходе проверки сообщения о преступления. В отсутствие достаточных сведений, обосновывающих подозрение, в качестве формального основания наделения данным статусом будет выступать сам факт проведения в отношении такого лица процессуальных действий. Следователь, предваряя реализацию права преследуемого лица на участие защитника в стадии возбуждения уголовного дела, обязан сообщить ему о том, что в отношении него будут проводиться процессуальные действия в связи с проверкой сообщения о преступления. Данный факт должен быть отражен в протоколе процессуального действия (если он составляется), в объяснении и др.
Изложенное свидетельствует о необходимости пересмотра спектра задач, решаемых на стадии возбуждения уголовного дела. Есть предпосылки для включения в их число установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Это не означает, что мы ранее исключали наличие подобной задачи. Мы отмечаем, что она из факультативной (необязательной) перешла в разряд необходимых.
Констатация данного положения обуславливает необходимость переосмысления содержания деятельности следователя (дознавателя) на данной стадии. Коль скоро имеются объективные предпосылки для постановки вышеуказанной задачи, необходимо определиться и с системой средств ее решения.
В юридической литературе [2, с. 14-18; 4, с. 18-22], а также в диссертационных исследованиях правовое положение преследуемого лица в ходе проверки сообщения о преступлении преимущественно рассматривается в контексте обеспечения его интересов (комплекс прав и гарантии их реализации) [1; 10]. Законодатель, наделив процессуальными возможностями данного участника, обошел вниманием его обязанности и процессуальные средства обеспечения его надлежащего поведения. Вместе с тем в правоприменительной практике не исключены ситуации отказа от добровольного участия преследуемого лица в следственных действиях, имеющих ярко выраженный принудительный характер (освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования). Трудноразрешимой представляется ситуация с доступом в жилище для его осмотра как места происшествия в ситуации, когда проживающие в нем граждане сами совершают противоправные деяния и в последующем отказывают в даче согласия на производство данного следственного действия1. Эти преступления могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств (например, оснащение в жилищах нарколабораторий, наркопритонов), незаконной экономической деятельностью (например, осуществление незаконной банковской деятельности) или хранением оружия. Противодействие в форме препятствования проникновению должностным лицам органов предварительного расследования в жилище может сопровождаться сокрытием находящихся там следов преступления (уничтожаются документы, наркотические средства, выводится из строя техника).
Вопрос о правомерности производства осмотра жилища в качестве места происшествия на стадии возбуждения уголовного дела неоднократно становился предметом
рассмотрения Конституционного Суда РФ2. Так, рассматривая жалобу гражданина Никитина А.Ю., оспаривавшего нормы УПК РФ, которые, по его мнению, позволяют до возбуждения уголовного дела проводить осмотр жилища и изымать находящиеся там вещи без согласия его владельца и без судебного решения, Конституционный Суд РФ отметил: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части первой статьи 12, части второй статьи 29 и части пятой статьи 177 прямо закрепил, что осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 УПК РФ, которая допускает в случаях, не терпящих отлагательства, проведение данного следственного действия и без получения судебного решения, на основании постановления следователя или дознавателя с последующим уведомлением судьи и прокурора о его производстве; при этом осмотр места происшествия, предметов и документов производится в том числе до возбуждения уголовного дела в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела»3.
Правовая неопределенность в вопросе о правомерности принудительного производства в отношении данного лица следственных действий не позволяет органам предварительного расследования проявлять наступатель-ность и эффективно решать задачи стадии возбуждения уголовного дела. В юридической литературе полный отказ от принуждения на данной стадии признан непродуктивным, авторы не исключают принуждения в определенных ситуациях. Так, в случае фактического задержания лица, т.е. когда имеет место одна из ситуаций, предусмотренных ст. 91 УПК РФ, освидетельствование возможно с применением физического принуждения [7, с. 128]. Этот подход следует признать верным. Уголовно-процессуальное принуждение на данном этапе может проявляться в конкретных ситуациях в виде частных приемов, способствующих решению задач уголовного судопроизводства [3, с. 94].
Конституционный Суд РФ, рассматривая пределы действия права не свидетельствовать против себя самого, отметил, что данное положение не исключает возможности проведения, независимо от того, согласен на это подозреваемый или обвиняемый либо нет, различных процессуальных действий с его участием (осмотр места происшествия, опознание, получение образцов для сравнительного исследования), а также использования документов, предметов одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения доказательств по уголовному делу4.
Полагаем, что правозащитная функция стадии возбуждения уголовного дела ограничивает, но полностью не исключает применение принудительного потенциала. Предусмотренные в УПК РФ гарантии участников проверки сообщения о преступлении позволяют обеспечить реализацию их прав и интересов.
В ходе проверки сообщения о преступлении преследуемое лицо как потенциальный подозреваемый (обвиняемый) может оказывать органам предварительного расследования незаконное противодействие, в том числе и посредством уклонения. С уведом-
Вестник Сибирского юридического института МВД России
лением лица о начале осуществления в отношении него обвинительной деятельности существенно повышается вероятность его ненадлежащего поведения. Однако меры процессуального принуждения, предусмотренные в разделе 4 УПК РФ, могут применяться только после возбуждения уголовного дела. Следует выяснить, какие процессуальные средства могут быть использованы для вызова и доставления преследуемого лица в орган дознания или к следователю, а также обеспечения его надлежащего поведения в ходе проведения в отношении него проверки сообщения о преступлении.
В УПК РФ не регламентирован порядок вызова участника проверки сообщения о преступлении к следователю (дознавателю). В правоприменительной практике он осуществляется, как правило, по телефону. Данный способ не предусматривает гарантий реализации интересов вызываемого лица. Могут возникнуть трудности с установлением факта и обстоятельств вызова этого лица в правоохранительный орган (кем был осуществлен вызов, причины вызова, время вызова, место прибытия и др.). В связи с этим при соблюдении некоторых ограничений и определенной корректировке содержания повестки мы не исключаем возможности воспользоваться для этого процедурой, предусмотренной в ст. 188 УПК РФ («Порядок вызова на допрос»). Во-первых, по очевидным причинам, исключается предупреждение о возможности привода либо применения иных мер процессуального принуждения в случае неявки без уважительных причин. Во-вторых, в повестке следует сделать ссылку на ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в которой указывается на возможность получения объяснений и производства следственных действий. В-третьих, отмечается, что лицо вызывается к следователю (дознавателю) в связи с проведением в отношении него проверки сообщения о преступления.
Учитывая, что в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ следователь, дознаватель в каждом случае обнаружения признаков преступления принимает предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, его право на получение объяснения при наличии для этого достаточных оснований трансформируется в его обязанность. Полномочию следователя (дознавателя) на получение объяснений, производство следственных действий корреспондирует обязанность преследуемого лица принять участие в их производстве. Нет прав без обязанностей, как и обязанностей без прав [11, с. 229]. В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, является обязательным не только для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, но также для иных участников уголовного судопроизводства. Однако обязанность дать объяснение не равнозначна обязанности явиться в служебное помещение. Следователь (дознаватель) не уполномочен осуществлять вызов участников стадии возбуждения уголовного дела, на которых, в свою очередь, не возложена обязанность не уклоняться от явки по их вызовам, как это предусмотрено в отношении свидетеля (п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ), эксперта (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ) и других участников уголовного судопроизводства. Данное обстоятельство исключает применение процессуальных санкций в случае неприбытия лица к следователю (дознавателю)5.
В контексте нашего исследования интерес представляет положение п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», согласно которому полиция наделена правом вызывать граждан и должностных лиц в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, получать по таким материалам необходимые объяснения. Соответственно, если лицу было разъяснена его обя-
занность в соответствии с указанным законом явиться к дознавателю для дачи объяснений и оно данное требование не выполнило, правомерно ставить вопрос о привлечении его к административной ответственности в соответствии с ст. 17.7 КоАП РФ. Тем не менее эта мера без внесения соответствующих изменой в УПК РФ в силу ее ограниченности (например, следователи не наделены полномочиями, предусмотренными для сотрудников полиции) и сложности процедуры ее применения является малоэффективной и не способной разрешить проблему с обеспечением явки участников проверки сообщения о преступлении к следователю (дознавателю). Нам представляется, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ следует возложить на участников проверки сообщения о преступлении обязанность являться по вызову следователя (дознавателя), а также предусмотреть негативные правовые последствия в случае невыполнения данного требования.
В правоприменительной практике возникают существенные сложности, связанные с определением правовых оснований и порядка доставления преследуемого лица в правоохранительный орган. Такая необходимость может возникнуть в случае, когда это лицо застигнуто при совершении деяния, содержащего признаки преступления, или непосредственно после его совершения.
Обращение к понятию момента фактического задержания позволяет предположить, что в УПК РФ должен быть регламентирован процессуальный порядок фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. Тем не менее в ч. 1 ст. 92 УПК РФ лишь указано на необходимость после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов составления протокола задержания. Данный тезис позволяет выделить такую форму ограничения свободы передвижения преследуемого лица, как доставление, определить некоторые параметры срока его исчисления, а также указать на то, что оно реализуется не субъектом, правомочным принять решение о задержании подозреваемого. Вместе с тем сам порядок непосредственного лишения свободы преследуемого лица в УПК РФ не регламентирован. Данный этап в определенной степени урегулирован в Федеральном законе «О полиции». В соответствии с п. 4. ч. 3 ст. 28 данного закона сотрудники полиции вправе требовать от лиц, подозреваемых в совершении преступления, оставаться на месте до прибытия представителей правоохранительных органов, а также доставлять лиц, подозреваемых в совершении преступления, в служебное помещение. Согласно п. 13 ч. 1 ст. 13 закона доставление осуществляется в целях решения вопроса о задержании гражданина при невозможности его производства на месте. Задержание на месте представляется возможным лишь в ходе производства по уголовному делу на основании постановления следователя. Во всех иных случаях на этапе захвата и доставления возможность констатации факта состоявшегося задержания весьма сомнительна. Факт доставления в служебное помещение оформляется протоколом, составленным в порядке, установленном чч. 14 и 15 ст. 14 закона «О полиции». Дальнейшее ограничение свободы лица осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 92 УПК РФ, в соответствии с которой после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания.
Лиц, подозреваемых в совершении пре-ступления6, вправе задерживать до передачи в полицию военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии7. Задержанное лицо подлежит доставлению в ближайший орган внутренних дел в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения задержанного лица. В данном случае фактически осуществляется доставление лица в служебное помещение и по сути оно
Вестник Сибирского юридического института МВД России
не отличается от доставления, осуществляемого сотрудниками полиции. Срок задержания подозреваемого исчисляется с момента принятия решения субъектом, указанным в ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Мы полагаем, что трехчасовой срок задержания военнослужащими войск национальной гвардии не входит в 48-часовой срок, исчисляющийся с момента задержания подозреваемого в порядке ч. 2 ст. 94 УПК РФ.
Не во всех случаях представляется возможным после доставления лица незамедлительно принять решение в порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ, что не позволяет применить меру процессуального принуждения и исключает дальнейшее удержание преследуемого лица в служебном помещении. Перед следователем (дознавателем) встает задача по обеспечению надлежащего поведения лица в ходе дальнейшей проверки сообщения о преступления. В отсутствие возможности применения мер процессуального принуждения следует обращаться к такому методу воздействия на личность, как убеждение, и стремиться сформировать мотивацию соответствующего образа действий. Данная форма влияния на личность реализуется посредством разъяснения необходимости надлежащего поведения, а также негативных последствий уклонения от органов предварительного расследования. В частности, лицу может быть доведена информация о том, что факты его ненадлежащего поведения будут в последующем учитываться при выборе меры пресечения. Кроме того, преследуемому лицу сообщается о том, что в случае его уклонения от органов предварительного расследования оно может быть объявлено в розыск в порядке, предусмотренном ст. 210 УПК РФ. Причем оно будет объявлено в розыск как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования. Данный вывод основан на понимании сущностных признаков «скрывающегося обвиняемого». Названное понятие имеет два смыслообразующих признака: наличие у лица юридической обязанности, наступающей в момент официального уведомления о начале уголовного преследования, и совершение умышленных действий, направленных на уклонение от уголовного преследования в совершении инкриминируемого ему преступления. Только совокупность данных обстоятельств может свидетельствовать о том, что обвиняемый скрывается. Как в первом, так и во втором случае нужно исходить из субъективной установки преследуемого лица. Оно должно осознавать, что в отношении него осуществляется уголовное преследование и что оно целенаправленно совершает действия по уклонению от органов предварительного следствия [подр.: 8, с. 47-48]. Уведомление лица о начале проведения в отношении него проверки сообщения о преступлении свидетельствует о том, что оно проинформировано о начале в отношении него обвинительной деятельности.
Полагаем, содержащиеся в действиях следователя (дознавателя) элементы несущественного психического воздействия допустимы, так как они не связаны с наложением на преследуемое лицо каких-либо обязательств, ограничиваются разъяснением неблагоприятных последствий, о наступлении которых ему может быть неизвестно, но которые зависят от его возможного неправомерного поведения.
В заключение акцентируем внимание на необходимости сохранения в уголовном судопроизводстве баланса гарантий защиты прав и законных интересов личности и гарантии решения задач уголовного судопроизводства. Совершенствование правового положения лица, в отношении которого на стадии возбуждения уголовного дела начинается обвинительная деятельность, позволяет создать дополнительные гарантии своевременной защиты его интересов. Оценивая данный шаг законодателя положительно, следует обратить внимание на необходимость пересмотра отношения к системе средств данного этапа досудебного производства. Полный запрет на применение уголовно-процессуального принуждения ставит под сомнение эффективное решение задач уголовного судопроизводства. В современных условиях есть предпосылки для дозированного дозволения использования на первоначальной стадии уголовного судопроизводства принудительных средств.
Список литературы Обеспечение надлежащего поведения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении
- Абраменко, А.А. Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины) : дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Абраменко. - М., 2019.
- Агабеков, К.С. О начале уголовного преследования в условиях охранительного правосудия / К.С. Агалбеков // Мировой судья. - 2019. - N 1.
- Буторин, Л.А. Процессуальные гарантии прав личности и принуждение в стадии возбуждения уголовного дела / Л.А. Буторин // Уголовно-процессуального принуждения и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования : сб. науч. статей. - Волгоград, 1987.
- Гусейнов, Н.А. Получение объяснений в стадии возбуждения уголовного дела как средство доказывания (применительно к сокращенной форме дознания) / Н.А. Гусейнов // Российский следователь. - 2016. - N 7.
- Давлетов, А.А. Уведомление о подозрении - процессуальная форма признания лица подозреваемым в стадии возбуждения уголовного дела / А.А. Давлетов, И.А. Федорова // Российская юстиция. - 2016. - N 12.
- Деришев, Ю.В. Процессуальное положение лица, в отношении которого проводится предварительная проверка сообщения о преступлении / Ю.В. Деришев, Е.И. Земляницин // Юридическая наука и правоприменительная практика. - 2014. - N 3 (29).
- Кальницкий, В.В. Следственные действия : учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. - Омск, 2015.
- Павлов, А.В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске (теоретический и прикладной аспекты) : монография / А.В. Павлов. - М., 2015.
- Тушев, А.А. О задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, войсками национальной гвардии Российской Федерации / А.А. Тушев, П.М. Малин, А.В. Пивень // Российская юстиция. - 2018. - N 12. - С. 63-65
- Филимоненко, И.А. Процессуальный статус личности в стадии возбуждения уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Филимоненко. - Екатеринбург, 2020.
- Хропанюк, В.Н. Теория государства и права : учебное пособие / В.Н. Хропанюк. - М., 1993.