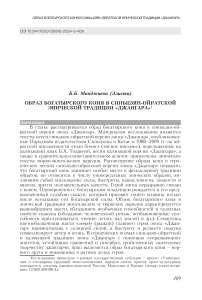Образ богатырского коня в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
Автор: Манджиева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ богатырского коня в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар», опубликованные Народным издательством Синьцзяна в Китае в 1986-2000 гг. на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой, песни калмыцкой версии «Джангара», а также в сравнительно-сопоставительном аспекте привлечены эпические тексты тюрко-монгольских народов. Рассмотрение образа коня в героических песнях синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что богатырский конь занимает особое место в фольклорной традиции ойратов, он относится к числу универсальных эпических образов, являющим собой воплощение силы, быстроты, выносливости, ловкости и многих других положительных качеств. Герой эпоса неразрывно связан с конем. Одновременно с богатырским младенцем рождается и его предназначенный судьбою скакун, который признает своего хозяина только после испытания его богатырской силы. Облик богатырского коня в эпической традиции монгольских и тюркских народов характеризуется разнообразием масти, обладанием необычных способностей и чудесных свойств скакуна (обладание человеческой речью, необыкновенные способности прислушиваться, умение летать над землей и др.). Семантика цветообозначения масти «зеерд» (рыжий) главного героя эпоса «Джангар» взаимосвязана с солярной силой, а быстроту и резвость скакуна символизирует ветер и огонь. В героических поэмах синьцзян-ойратской и калмыцкой традиции эпоса «Джангар» с помощью «украшающих» эпитетов, устойчивых сравнений и гипербол, свойственных эпическому творчеству джангарчи, ярко выделяется образ богатырского коня - верного друга и помощника в ратных делах героя.
Эпос «джангар», синьцзян-ойратская версия, калмыцкая версия, образ, мотив, конь, герой, богатырь, седлание
Короткий адрес: https://sciup.org/149146755
IDR: 149146755
Текст научной статьи Образ богатырского коня в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
B культуре номадов конь представлял особую ценность и играл важную роль в кочевом хозяйстве. «Почитание кочевниками-скотоводами коня — спутника, друга, обусловлено спецификой культуры. Конь делает для кочевника далекое близким; в сказках он наделяется сверхъестественными возможностями, могуществом, достойным хозяина-богатыря; в отдельных обрядах калмыков выступает в качестве символа транспортного средства между мирами» [Калмыки 2010, 459].
В сказочно-эпических произведениях конь беззаветно предан своему хозяину, помогает герою победить врагов, обладает магическими способностями. По мнению В.М. Жирмунского, «в образе коня как волшебного помощника в богатырской сказке еще ощущается отдаленная связь с мифологическими представлениями о звере, чудесном помощнике человека, основанными на древних тотемистических верованиях» [Жирмунский 1974, 250].
Целью данной статьи является рассмотрение образа богатырского коня в синьцзян-ойратской версии «Джангара» в сравнительном аспекте с калмыцкой традицией и эпосами народов Сибири и Дальнего Востока. Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар», опубликованные Народным издательством Синьцзяна в Китае в 1986—2000 гг. на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») [Жангар 1986—2000], переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой [Джангар 2005—2008], песни калмыцкой версии «Джангара» [ ^ а нк р 1978; Джангар 2020], а также в сравнительно-сопоставительном аспекте привлечены эпические тексты тюрко-монгольских народов [Бурятский героический эпос 1991; Тувинские героические сказания 1997; Кузьмина 2005].
В сказочно-эпической традиции тюрко-монгольских народов богатырь неразрывно связан с конем. В архаическом эпосе с рождением главного героя рождается и конь, предназначенный ему судьбой. Так, в экспозиции ойратского сказания «Бум Эрдени» табунщик Ак-Сахал говорит герою: «...бедовый серый Лыско величиной с гору; родился он от серого с яблоками жеребца величиной с сокровенный Хангай и серой с полосками кобылицы, родился вместе с тобой, в тот день, когда и ты появился на свет. Когда родился он, землю покопал — огонь зажегся; как появился он на свет, стал валяться — водяные струи закипели; заржал он на том месте, где родился — занялся пожар. Вот славный конь, судьбой предназначенный для тебя» [Владимирцов 1923, 59].
В синьцзян-ойратской версии «Джангара» в песне « Щацнр гидг нериг олсн белг » («Песнь о том, как было найдено имя Джангар») современного ойратского джангарчи Нарса с рождением главного героя, который остается сиротой, находится и его предназначенный конь — двухгодовалый жеребенок рыжей масти, который последовал за своим будущим хозяином [Манджиева 2023, 476]. Аналогичный сюжет встречается в песне « Y3^ Алдр хан ергэлгсн белг » («Песнь о женитьбе Узюнга славного хана») ойратского джангарчи Джавин Джуна, где главный герой — чудеснорожденный младенец и предназначенный ему конь вследствие вероломного нападения Свирепого Шара Гюргю на ханство Узюнга остаются сиротами [Джангар 2005, 55—56].
В песне « Алдр ^a^hp хеместэдэн енчн хоцргсн белг » («Песнь о том, как Славный Джангар в двухлетнем возрасте остался сиротой») ойратского сказителя Рампиля герой получает коня «в готовом виде»: старик Цаган, усыновивший осиротевшего Джангара, ловит жеребенка и приводит его к малолетнему хозяину [Джангар 2005, 86].
Юный герой Хошун Улан из песни «Хойр наста Хошун Улан кел ерг^ дээнд мордгсн белг» («Песнь о том, как двухлетний Хошун Улан впервые отправился в поход») ойратского сказителя Джавин Джуна отправляется на поиски своего предназначенного коня, чтобы совершить боевой поход в страну Хара Мантаса и освободить из плена своего отца Улан Хонгора [Джангар 2006, 472-474].
Выбор и поимку коня представляют испытания богатырской силы героя, который доказывает, что именно он предназначенный судьбою хозяин. Так, в песне « Баатр Хар ^unhH Шаргерл хаанла деелдгсн белг » («Песнь о битве Баатр Хара Джилгана с ханом Шарагерел») ойратского сказителя Баасанхара юный богатырь Хара Джилган, являющийся сыном Джангара, несмотря на уговоры отца, все же намеревается отправиться во вражескую страну хана Шарагерела. Для исполнения цели поездки герою необходимо найти своего предназначенного коня, поймать его и оседлать. Узнав от отца о месте нахождения своего скакуна, Хара Джилган отправляется к старику-табунщику Ах Сахалу, который сообщает, что его предназначенный красно-рыжий жеребенок только что родился и лежит рядом с матерью-кобылицей, опоясав ее своей пуповиной. Герой набрасывает жеребенку на шею аркан со словами: « Мини унх зевте KYлг мен болхла, / Амн KYЗYhини / Алдл уга ор! / Если ты мой предназначенный конь, то непременно накинься на шею!» (перевод здесь и далее автора статьи) [Джангар 2006, 500].
Поимка и укрощение коня в синьцзян-ойратской версии «Джангара» приобретают сказочно-динамичный характер. Брошенный на шею коня аркан не останавливает его бега, юный богатырь неимоверными усилиями пытается его удержать: « Баатр Хар ^^hH / Хадыг ешклед татхла, / Хамх-хамх татад, / Бутыг ешклед татхла, / Булh-булh татад, / Уул-та hазриг кеде болтл, / Кеде hазриг уул болтл татв . / Богатырь Хара Джилган / О скалу ногой опираясь, тянул, / Скала разрушилась, / О кустарники опираясь, тянул, / Кусты с корнем выдергивались, / Так тянул, что горы в пустынное место превращались, / Так тянул, что пустынное место в горы превращалось» [Джангар 2006, 500].
В испытании коня явственно выступает особая примета героя -родимое пятно. Так, когда силы богатыря и его предназначенного коня были на исходе, жеребенок говорит юноше: « Намаг ундг зевте / Эзн болхла чи / Товчан теелед, / врчен секдг угай чи? / Если ты истинный / Мой хозяин, / Почему не расстегнешь пуговицу, / Не обнажишь свою грудь?» [Джангар 2006, 500]. Когда Хара Джилган расстегнул пуговицу и обнажил грудь, от красного родимого пятна «трехцветной радуги сияние засияло» [Джангар 2006, 500]. Таким образом, узнавание конем предназначенного хозяина происходит в результате раскрытия особой приметы — родимого пятна.
Испытание коня и его молодого хозяина сохранилось и в эпосах тюрко-монгольских народов. Так, в тувинском героическом эпосе «Ху-нан-Кара» с рождением чудесного младенца рождается и его предназначенный конь: «У соловой норовистой кобылицы, / Которая была девять лет нежеребой, / Черный сосунок-жеребенок родился» [Тувинские героические сказания 1997, 101]. Черная масть коня указывает на его хтоническое происхождение, жеребенок обладает дикой, необузданной силой: «Так мчался, бежал, / Что звезды с небес / На землю падали, / Прах земли / К небесам поднимался. / Так брыкался, / Что гористые земли / Становились равнинными, / Так брыкался, / Что равнинные земли / Становились гористыми...» [Тувинские героические сказания 1997, 103]. Мотив укрощения коня переходит в словесное подтвержде- ние предназначенности коня и его хозяина: «“Хорошим любимым хозяином / Ты сможешь мне быть!” — / Став, сказал [жеребенок]. / “Хорошим любимым черным конем / ты будешь мне!”» [Тувинские героические сказания 1997, 105].
Обладание героя конем чудесной силы ярко описывается в калмыцкой богатырской сказке « Хар haлзн мерт е Хадр Хар AehUH хан Сен е к » («Хадар Хара Авги хан С ё няке, владеющий конем Хара Галзан»). Так, чудеснорожденный герой, найдя своего предназначенного коня (только что родившегося), вынужден отпустить жеребенка, чтобы тот напился материнского молока. Вдоволь насытившись молоком, жеребенок преображается в богатырского коня: « Ишкед о[р]ксн ишклдурнъ хуучн худгин йорал болен, шавхагаснъ есрсн шаврнъ борзатын бор довун болен, хойр хамраснъ hарсн бор кееснъ хойр экте дала болна, хойр ^днэснъ hарсн hалнъ хойр экте тYYмр болад, те^гр, hазр ниргYлсн хар hалзн гYYhед ^рэд ирне. / Где ступит он, подобные старым колодцам, следы оставались, комья земли, что от щ ё ток его копыт отлетали, в широкие степные холмы превращались, из двух его ноздрей выступающая пена была подобна раздвоившемуся морю, искры, летевшие из двух его глаз, были подобны раздвоившемуся пожару» [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 378379].
Облик богатырского коня в эпической традиции тюрко-монгольских народов характеризуется разнообразием масти, обладанием необычных способностей и чудесных свойств скакуна. В синьцзян-ойрат-ской и калмыцкой версиях эпоса «Джангар» конь главного героя имеет масть « зеерд » (рыжий), в богатырских сказках встречаются производные этой масти: « улан зеерд » (красно-рыжий), « цусн зеерд » (кроваво-рыжий), « хо зеерд » (светло-рыжий). Семантика цветообозначения масти «зеерд» (рыжий), вероятно, взаимосвязана с солярной силой, быстроту и резвость скакуна символизируют ветер и огонь. В эпосе боевой скакун аранзал Зерде, как и его хозяин, обладает чудесными свойствами, одна из его способностей — это умение летать над землей: «Арнзл Зеердиг далн хойр hуйдад, / Таг hередед, / Тал дунднъ тусв. (‘Аранзала Зерде семьдесят два раза стегнул. / Прыгнул [скакун] — / Прямо в середине войска оказался’)» [Джангар 2020, 331]. В хакасском героическом эпосе «Ал-тын-Арыг» встречается описание крылатого коня: «Девятисаженный / Крылатый Кроваво-рыжий конь. / Своей спиной богатырский конь / Луну заслоняет, / Своей грудью хороший конь / Солнце заслоняет» [Кузьмина 2005, 1067]. По мнению В.Я. Проппа, «крылатый конь представляет собой соединение из птицы и коня, возникшее благодаря тому, что культовая роль птицы с приручением лошади перешла с птицы на коня» [Пропп 1976, 259].
Конь героя алтайского эпоса «Очи-Бала» также имеет кроваво-рыжую масть, гиперболизированное описание скакуна обусловлено его связью с космическим верхом: «Мой кроваво-рыжий [конь), подобный радуге, / Передними ногами перебирает, / Задними ногами приплясывает. Два одинаковых глаза его, / Будто луна при затмении, [поворачивались]. / Два одинаковых его уха-ножниц / На небе бело-синие [облака] / Туда-сюда разгоняли» [Кузьмина 2005, 195]. В бурятском эпическом сказании «Хатуу Хара хан» конь героя также рыжей масти, «С телом в девяносто саженей / Стройный рыжий конь» [Кузьмина 2005,
539], услышав призыв своего хозяина, тут же прибегает к нему. Богатырский конь героя бурятского эпоса Аламжи Мэргэна — соловой масти скакун «Восьмидесятисаженный, / С ушами восьмисаженными, / Кончиком подбородка / Сияние звезд притягивающий, / Высокою холкой / Лучи солнца притягивающий, / Со звездочкой на лбу, / С пятнышками на крупе» [Аламжи Мэргэн 1991, 87], который обладает необыкновенными способностями прислушиваться: «Одно остроконечное ухо / В широкую чистую землю вонзив, / <...> Другое остроконечное ухо вонзив в облака / Высокого светлого неба» [Аламжи Мэргэн 1991, 133]. Конь не только понимает речь своего хозяина, но и обладает человеческой речью, предупреждает Аламжи Мэргэна об опасности и советует ему, как лучше одолеть врага [Аламжи Мэргэн 1991, 135].
В калмыцкой версии Малодербетовского цикла (1862 г.) эпоса «Джангар» конь главного героя обладает превосходными и волшебными качествами: быстрота, выносливость, сила, неутомимость. Аранзал Зерде в прыжке может неба достичь, а в критические моменты скакун разговаривает с хозяином, отвечает на его упреки: « Арнзл Зеердден келв: / — Манhдyр hал YduH анхнд KYpгед ац. / Эс KYpгед егдг болхнчн, / Дервн хар mуpуhuчн мелтлнев. / Зеерд келв: / — Ман^дур hал YduH анхнд / hаслн,гuн дервн дала деевлYлед, / Туг mYMHu барата, / T y mxh бухин еете, / Залу Зеердин тоосн билте гихлерн, / Зах бухин зYpкн чичртл, / КYpгед егсв! / Аранзалу Зерде [Джангар] сказал: / — Завтра к полудню меня доставь. / Если не довез ё шь, / То четыре ч ё рных копыта твои выверну! / Зерде ответил ему: / — Завтра в полдень, / Бурных четыре моря взволновав, / К стоящему под бессч ё тными знам ё нами / Бесчисленному войску [доставлю], / Да так, что молодым Зерде поднятую пыль завидев, / В крайних полках [у воинов] сердца затрепещут, / Так доставлю я тебя!» [Джангар 2020, 326—329].
Поэтическое преувеличение приобретают описания богатырских коней, отдельных частей их тела, выносливости и роста. Конь как боевой товарищ и помощник богатыря в песнях обладает быстротой, резвостью и колоссальной силой.
Воспевая боевого коня, джангарчи прибегали к «украшающим» эпитетам, устойчивым сравнениям и другим выразительным средствам языка. Б.Л. Рифтин, рассматривая природу и организацию описаний коня в монгольском фольклоре, отметил такую важную особенность, как «расчлененное», то есть «по частям», описание коня с явной гиперболизацией [Рифтин 1982, 71]. В синьцзян-ойратской версии восхваление (маг-тал) коня Джангара, аранзала Зерде, начинается с описания его масти, затем сказитель переходит к воспеванию частей его тела: «Алта Ха^а цогцта, / Арслнгин сеехн чее^те, / Хар хулни бегmphmе, / Хун неемн алд KYЗYmд, / Берм YЛY эрвлзгсн сеехн делте, / Бадм яmhн сансата, / Хувнгин цорЬ читке, / Хурдн шонхрин HYдmе, / врвлгин амн дун цаhан ШYдmе, / врмин YЗYP соята, / Хар барсин сеерте, / Бумбин найн нег алд / Шур менгн сYYлmе, / Йисн алд цогцта, / Йисн те чикте, / ЦYYлмдл уга иш-кдг / Дервн болд хар турута, / Шал дервлжн шиирте, / Алта Зеерин нуphmа, / Кемсгерн кемpY / Кек махнь mYлкY, / <...> Cанмаhаpн сар нарн хойрла наадад беедг, / Сайг дервн mуpуhаpн / Сав делкед зевлм болад беедг, <...> /Мерн биш мерл эрдни, /КYлг биш / ^рл эрдни гине / Телом с Алтай и Хангай, / Как у льва, прекрасная грудь у него, / Крестец, как у черного кулана, / Словно у лебедя шея, в восемь саженей, / Больше обхвата прекрасная грива у него, / Челка, словно цветок лотоса, / Как янтарные раковины, уши у него, / Как у быстрого сокола, глаза у него, / Белоснежные зубы у него, / Как свёрла бурава, клыки у него, / Как у черного барса, шейный позвонок у него, / В восемьдесят один саженей / Серебряный с коралловым отливом хвост у него, / В девять саженей тело его, / В девять саженей уши у него, / Неторопливым шагом ступает он, / Крепкие, как сталь, четыре копыта у него, / Совершенные квадратные голени у него, / Прекрасная, словно Алтай, спина у него, / С поднятыми бровями, / Прекрасные упругие мышцы у него, / Широкие бока у него, / <...> С луной и солнцем чёлкой играя, / С щётками четыре его копыта / Весь свет обойти способны, <...> / Не конь, а драгоценность, / Не скакун, а сокровище, говорят» [Джангар 2008, 275-276].
Магтал коню присутствует во всех циклах калмыцкой версии «Джангара». В качестве примера приведем отрывок из Малодербетов-ского цикла: « Туула сээхн зоота, / Тошл сээхн ыуйта, / Ялмн сээхн хаа-та, / Ецсг сээхн mолhama, / врм сээхн ^дтэ, / вргн сээхн чее^тэ, / вл йон,хр дерен haшг алтн турута, / Найн алд шур сээхн сYYлmэ, / Нээмн алд суесн сээхн делтэ, / Тунщрмудын тохм — / Долан зун гYYmэ, / Долда зеерд а^рыта, / А^рыин yyhн Yрн — / Долъцырхн сээхн Зеердиг / Дуут ^а^ьрин ергэ тал зерYлэд ыаре. / Как у зайца, прекрасной была спина его, / Гладкими были красивые б ё дра его, / Как у тушканчика, прекрасными были передние ноги его, / Изящной была красивая голова его, / Как св ё рла бурава, острыми были глаза его, / Широкой была красивая грудь его, / Крепкими были четыре прекрасных копыта его, / В восемьдесят саженей с коралловым отливом хвост был у него, / В восемь саженей с жемчужным отливом грива была у него. / Из породы тунджурое ,/ Того, чей косяк — семьсот кобылиц, / Округлившегося рыжего жеребца, / Того жеребца первенца — / Резвого прекрасного Зерде / Ко дворцу прославленного Джангара повели» [Джангар 2020, 280—281].
Описание коня «по частям» встречается в алтайском эпосе «Очи-Бала»: «Конь-эрдьине Очи-Дьерен, / Легко ногами перебирая, примчался. <...> / У коня, духом воды ниспосланного, / Грива и хвост, будто молния, / Сверкали, / Голова и спина, будто высокая гора, / Блестели. / Очи-Дьерен, драгоценный конь / Будто огонь-пламя. / Четыре копыта его / Зеркальные камешки четырех [сторон] Алтая. / Грива и хвост его молнии. / Очи-Дьерен, [конь] из клыкастых, / Передними ногами перебирает, / Задними ногами приплясывает, / Хвост в девяносто две пряди / О щеки бился, / Грива в семьдесят две косички / До глаз колен ниспадала, / С той стороны, где садятся, / Луноподобное тавро [у него], / С той стороны, где бьют плетью, / Солнцеподобное тавро. / Два его одинаковых уха-ножниц / На небе бело-синие [облака] / Туда-сюда разгоняли. / Два одинаковых черных глаза его, / Как луна при затмении, / Поворачивались. / Духом воды ниспосланный конь, / Лунокрылый рыжий конь [богатырки]» [Кузьмина 2005, 195]. Конь, ниспосланный духом воды, обладающий чудесными качествами, является главным помощником и неизменным спутником хозяйки-богатырки.
В эвенкийском сказании «Дулин Буга Торгандунин» верными помощниками в богатырских походах являются не только кони, но и олени, так, например, на верховых оленях ездят только богатыри среднего мира — от первопредка эвенков Торгандуна до его праправнука Гарпас-манди. Интересно отметить, что средством передвижения богатырей-а-вахи также являются «величиной со скалу» верблюды и «ростом с гору» быки [Дулин Буга Тогандунин 2013].
Для отправления героя в боевой поход необходимо подготовить его коня. Тема подготовки коня в дальнюю дорогу в синьцзян-ойратской версии «Джангара» начинается с формульного выражения: « KYлг мини тохтн! » («Седлайте моего коня!»). В песне « Алдр нойн Ща^ранкн Алтн Соя хааг дорацулгсн белг » («Песнь о том, как Джангаровы богатыри одержали победу над Алтан Соя-ханом») ойратского джангарчи Перлин Рампиля исходной точкой подготовки коня героя Хонгора является формула-сигнал: « Уул бегтрм хунта, / Орчлц тегалм хурдн / Оцл Кек hалзныг мини / Авн ир^ тохгтн! / С могучим, словно гора, крестцом, / Быстрого, что вселенную обойдет, / Оцол К ё ке Галзана моего, / Приведите и седлайте!» [Джангар 2005, 555].
Тему седлания коня сказитель строит в определенной последовательности, начиная со сбруи, надеваемой на голову скакуна (недоуздок — ногт , узда — хазар , повод — цулвр ), затем переходит к описанию подпотника ( делтр ), шестислойного потника ( тохм ), широкого, как наковальня, золотого седла ( эмал ) и заканчивает натяжением подпруги ( татур ) [Джангар 2005, 555].
В калмыцкой версии «Джангара» тему седлания джангарчи описывает в динамике, когда при каждом последующем этапе седлания конь приходит в движение: «Серебром расшитый подпотник положили, / Сверху расшитый серебром потник когда стелили, / Скакун сорок четыре раза взбрыкнул. / Когда широкое, как наковальня, посеребр ё нное седло на н ё м укрепляли, / На круп его с буграми мышц / С пластинами из освященного ж ё лтого золота / Подхвостник брошенный упал. / С коралловым отливом красивый хвост его приподняв, / На крупе его затянули. / Расшитую золотом продолговатую седельную подушку положив, / С красивыми двадцатью пятью заст ё жками / Серебристую заднюю подпругу на н ё м затянули, / Стройного Зерде до ржания-крика доведя, затянули. / Подпруги серебристой концы / Под расшитую золотом продолговатую седельную подушку / Поддели. / Из ланов ж ё лтого золота нагрудник / На семьдесят две ж ё лто-золотистые заст ё жки / На плечелопаточных буграх / Так застегнули, что зашатался [скакун]. / На луку широкого, как наковальня, посеребр ё нного седла / Кожаный белый повод намотали» [Джангар 2020, 282—283].
Гиперболизированные описания коня в синьцзян-ойратской и калмыцкой версиях эпоса «Джангар» показывают, что такие темы, как «восхваление- магтал коню», «седлание коня» имеют схожую стихотворную конструкцию и одинаковую последовательность действий. Отличительная особенность в калмыцкой версии проявляется в процессе седлания, которое происходит в динамике. По мнению Б.Л. Рифтина, образы маг-тала коню взаимосвязаны с буддийской символикой и восходят к представлениям о «восьми драгоценностях», значения которых реализованы в художественной ткани монгольского магтала коню. Исследователь отмечает, что «практически все предметы, с которыми сопоставляются части тела коня и его голос, представляют собой полный набор «восьми драгоценностей» буддизма: золотой зонт — грива коня, золотые рыбки — глаза, сосуд с напитком бессмертия — грудь, уши — лотос, голос — звук раковины, ноздри — узел бесконечности, копыта — огненное колесо, и только пестрая лента хвост выпадает из обычного ряда восьми буддийских символов» [Рифтин 1982, 75].
Таким образом, рассмотрение образа коня в героических песнях синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что богатырский конь занимает особое место в фольклорной традиции ойратов. Он относится к числу универсальных эпических образов, являющим собой воплощение силы, быстроты, выносливости, ловкости и многих других положительных качеств. Герой эпоса неразрывно связан с конем. Одновременно с богатырским младенцем рождается и его предназначенный судьбою скакун, который признает своего хозяина только после испытания его богатырской силы. Облик богатырского коня в эпической традиции монгольских и тюркских народов характеризуется разнообразием масти, обладанием необычных способностей и чудесных свойств скакуна (обладание человеческой речью, необыкновенные способности прислушиваться, умение летать над землей и др.). Семантика цветообозначения масти « зеерд » (рыжий) главного героя эпоса «Джангар» взаимосвязана с солярной силой, а быстроту и резвость скакуна символизируют ветер и огонь. В героических поэмах синьцзян-ойратской и калмыцкой традиции эпоса «Джангар» с помощью «украшающих» эпитетов, устойчивых сравнений и гипербол, свойственных эпическому творчеству джангарчи, ярко выделяется образ богатырского коня — верного друга и помощника героя.
Список литературы Образ богатырского коня в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
- Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн и его сестрица Агуй Го-хон» / Сост. М.И. Тулохонов. Новосибирск: Наука, 1991. 312 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Элиста: Джангар, 2005-2008.
- Дулин буга Торгандунин = Торгандунин среднего мира / Сост. А.Н. Мы-реева. Новосибирск: Наука, 2013. 856 с. (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока).
- Жангар: в 3 т. Дунд улусийин ардын амн зокал урлгиг судлх ниигмлгин шинжангин уйгур эбээн засх оюни сала ниигмлигэс эмкэгдэлвэ. Урумчи: Шин-жийан-гиин ардын кэвлэлин хора, 1986-2000.
- Жан.ьр. Хальмг баатрлг дуулвр (25 белгин текст: 1-2 боть) = Джангар. Калмыцкий героический эпос (тексты 25 песен) / сост. А.Ш. Кичиков; ред. Г.И. Михайлов. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978.
- Калмыцкие богатырские сказки / вступит. ст. Б.Б.Манджиевой; подгот. текстов, переложение калмыцких текстов, пер., примеч., коммен., указатели, словарь Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой, Ц.Б. Селеевой; примеч., коммент., указатели, словарь Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, В.Л. Кляус, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев; Калмыцкий научный центр РАН. М.: АО «Первая Образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2018. 561 с. (Свод калмыцкого фольклора).
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / вступит. ст. Б.Б. Манджиевой; сверка текстов песен с оригиналом на «ясном письме» Б.Б. Горяевой, Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; перевод Т.А. Михалевой; примеч., коммент., словарь, указатели Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: Первая Образцовая типография, Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 544 с. (Свод калмыцкого фольклора).
- Тувинские героические сказания: Хунан-Кара. Боктуг-Кириш, Бо-ра-Шэлей / Сост., вступ. ст., подгот. текста, подстр. пер., коммент. и словари С.М. Орус-оол; Подгот. тувинских текстов под ред. Д.А. Монгуша; пер., коммент. к пер. А.В. Кудиярова. Новосибирск: Наука, 1997. 584 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).
- Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. Пг.; М.: Светоч, 1923. 253 с.
- Жирмунский В.М. Избранные труды. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. 723 с.
- Калмыки / отв. ред. Э.П. Бакаева, Н.Л. Жуковская. М.: Наука, 2010. 567 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Наука, Восточная литература, 1992. 320 с.
- Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 1383 с.
- Манджиева Б.Б. Сюжетосложение эпической песни-поэмы «Ж,ан,Ь|р гидг нериг олсн белг» («Песнь о том, как было найдено имя Джангар») ойратского джангарчи Нарса // Монголоведение. 2023. Т. 15. № 3. С. 470-487.
- Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М.: Наука, 1976. 325 с.
- Рифтин Б.Л. Из наблюдений над мастерством восточномонгольских сказителей (магтал коню и всаднику) // Фольклор. Поэтика и традиция. М.: Наука, 1982. С. 70-92.