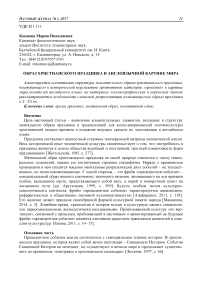Образ христианского праздника в англоязычной картине мира
Автор: Коннова Мария Николаевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируется когнитивная структура мыслительного образа христианского праздника, выступающего в исторической перспективе прототипом категории «праздник» в картине мира носителей английского языка; на материале лексикографических и корпусных данных рассматриваются особенности словесной репрезентации изменяющегося образа праздника в X-XX вв.
Время, праздник, ментальный образ, когнитивный сдвиг
Короткий адрес: https://sciup.org/147229743
IDR: 147229743 | УДК: 811.111.
Текст научной статьи Образ христианского праздника в англоязычной картине мира
Цель настоящей статьи - выявление концептуальных элементов, входящих в структуру ментального образа праздника в традиционной для англо-американской лингвокультуры христианской модели времени и описание ведущих средств их экспликации в английском языке.
Праздники составляют ценностный стержень темпоральной матрицы человеческой жизни. Весь исторический опыт человеческой культуры свидетельствует о том, что «потребность в празднике является в жизни общества всеобщей и постоянной, при всей изменчивости форм празднования» [Жигульский, 1985, с. 277].
Ментальный образ христианского праздника по своей природе относится к числу темпоральных сущностей, однако его когнитивное строение специфично. Наряду с временными признаками в нем сводятся воедино ментальные репрезентации двух событий - не тождественных, но тесно взаимосвязанных. С одной стороны, - это фрейм «прецедентное событие» -концептуальный образ некоего ключевого, значимого явления, занимающего на оси времени особое, выделенное место, представляющего собой веху, а порой и поворотный пункт на жизненном пути [ср. Арутюнова, 1999, с. 509]. Будучи особым типом культурносемиотического контекста, фрейм «прецедентное событие» характеризуется динамизмом, референтностью и общественно значимой кульминативностью [Алефиренко, 2011, с. 118]. Его наличие делает праздник своеобразной формой культурной памяти народа [Макашова, 2014, с. 5]. Линейное время, хронология и история входят в культурную память символически переосмысленными, аксиологически насыщенными. Пронизывающий культуру «по вертикали», связанный с прошлым, пребывающий в настоящем и ориентированный на будущее фрейм «прецедентное событие» является ключевым средством трансляции ценностей и смыслов культуры [ср. Попова, 2011, с. 14-15].
Основная часть
Прецедентное событие всегда соотносится с темпоральным планом истории. В христианском празднике, история являет собой вечно настоящее - Священную Историю. События Священной Истории не исчезают, но «существуют в вечном мире и продолжают существовать во временном, повторяясь в христианском календаре» [Лихачев, 1997, с. 66].
В христианскую картину мира идея сопричастности праздника реальности иного, горнего мира входит как часть Откровения, получившего свое выражение в четвертой заповеди Закона Божиего:
“Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shall thou labour, and do all thy work: But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God; in it thou shall not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed if (Exodus 20: 9-11)1.
Аксиоматическое утверждение святости дня праздника, на который указывает имя-символ sabbath - день субботний2, эксплицируется в Священном Писании в форме модальности категорического долженствования - “Remember the sabbath day, to keep it holy” («Помни день субботний, чтобы святить его»), Онтологическая «инаковость» праздника как отделенного от остальных дней, наполненных земной трудовой деятельностью, имеет своим основанием его непременную соотнесенность с надмирной, трансцендентной Божественной реальностью, раскрывающейся в благословении Божием: “the Lord blessed the sabbath day, and hallowed if («благословил Господь день субботний и освятил его»), Концепт праздника получает в Библии максимально высокое аксиологическое наполнение как соотносящийся с изначальной реальностью космического бытия: “For in six days the Lord made heaven and earth < ..> and rested the seventh day” («Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю <...>, а в день седьмой почил»), Прецедентным событием выступает здесь Божественный покой субботнего дня, завершивший семидневный цикл творения вселенной.
Для христианского сознания, основывающегося на вере в Пресвятую Троицу и воплощенного Сына Божия, границы недельного цикла расширяются. Событие воскресения Христова освящает первый день после субботы (fthe first day of the week” [St. Matthew 28: 1]). В дне воскресном, получившем в англоязычной традиции имя «дня Господня» (Sunday, the day of the Lord), совпадают день первый и день восьмой - «это одновременно и первый, и восьмой день недели, день вхождения в вечность» [Лосский, 2004, с. 407].
Вторым конституирующим элементом концепта «христианский праздник» является фрейм «празднование» - сложный, многоаспектный процессуальный фрейм-скрипт, включающий ментальные репрезентации всего того широкого спектра действий - традиций, установлений, обрядов - которые входят в представление о празднике как о событии, совершающемся на темпоральной оси настоящего.
Наличие фрейма «празднование» делает пространственно-временную конфигурацию целостного концепта «праздник» уникальной - это всегда пространство реального действия, развертывающееся «здесь» и «теперь», сконцентрированное вокруг наиболее значимых жизненно важных интересов [Ванченко, 2009, с. 32]. Связь с осью настоящего предопределяет ключевое значение праздника для упорядочивания времени. «Сам порядок времени, календарь возникают как результат повторения праздников: не только в церковном календаре, но и измеряя время вообще, мы склонны двигаться не от месяца к месяцу, а от праздника к празднику, от Рождества к Пасхе» [Гад амер, 1991, с. 310].
Наряду с событийными фреймами, ментальная область «праздник» включает в качестве категориального признака фрейм эмоционального состояния - «радость». В этом субъективном переживании праздника состоит его объективное отличие от времени «обычного», повседневного. Более того, праздник, по мысли Г.-Г. Гадамера, является «собственно временем», в противоположность времени «пустому», возникающему при наполнении его определенной деятельностью. «При наступлении праздника данный момент или отрезок времени оказывается наполненным торжеством. Это произошло не потому, что кто-то заполнил время; напротив, само время стало праздничным, как только пришел срок, и с этим непосредственно связан характер праздничного торжества. Это и может быть названо собственно временем» [Гадамер, 1991, с. 310-311]. Праздник задает свое собственное время торжественностью и тем самым останавливает обычное время, заставляет его «застыть - в этом и заключается празднество. Возможность рассчитывать время, располагать временем, характерная для обычного уклада жизни, в праздник оказывается как бы изъятой» [Там же, с. 311].
В английском языке базовую вербализацию ментального образа христианского праздника осуществляют синонимичные субстантивы holiday («праздник; день отдыха»), feast («праздник; пир») и festival («праздник»),
В исторической перспективе самым ранним средством ословливания анализируемого концепта выступает существительное holiday (holy-day). Англо-саксонское по происхождению, оно представляет собой сложное слово, включающее основы halig- («святой», ср. нем. heilig) и dce^ («день»). Внутренняя форма лексемы свидетельствует о непосредственном сопряжении в рамках концепта «христианский праздник» ключевого темпорального фрейма «день праздника» с вневременным планом - категорией «вечность». Проявлением последней в пространстве земного бытия является святость, на которую в слове holiday указывает основа holy. Идея «святости», «освященности» раскрывается в ментальном образе праздника, прежде всего, как представление о его «выделенности» из потока «обычного» времени.
Лексема holiday, в значении которой в качестве исходных смыслоразличительных сем нашли свое отражение категория «время» (фрейм «день праздника») и категория «вечность» (в форме концепта «освященности», «святости»), служит в древнеанглийских текстах гиперонимическим обозначением праздничного дня. Ср. следующие примеры:
-
(1) Hueder on hali^da^um ^e^emde1 (Lindisf Gosp. Mark iii. 2, ok. 950 r.);
-
(2) Be hali-dcei^es freolse. De die dominica et festis observandis2 (Laws of Cnut II. c. 45 (Schmid), 103 5 r.) [OED, 2009].
В примере (1) слово
hali
Существительное holiday продолжает выступать ведущим средством вербализации концепта «христианский праздник» в последующие столетия. Ср. примеры XIV-XIX вв.:
-
(3) Goo to chirche, faste and kepe your halydayes (C axton Reynard 28, 1481)3;
-
(4) The Sundays came round weekly; other holidays came yearly4 (Lingard, Anglo-Sax. Ch. (1858) I. Vii. 288) [OED, 2009].
В приведенных примерах лексема holiday реализует ключевой концепт освященного церковного праздника, мысль о котором дополнительно актуализируется ближайшим словесным контекстом (ср. «goo to churche» [3], «the Sundays» [4]).
Наряду co словом holiday базовую вербализацию ментального образа праздника в христианской модели времени осуществляют существительные feast («праздник; пир») и festival («праздник»).
-
(5) As hit neyhlechet to heore muchele feste2 (Passion 85 in O.E. Mise. 39, 1275 r.) [OED, 2009].
Концептуальное содержание, репрезентируемое лексемой feast в среднеанглийский и ранненовоанглийский периоды, максимально приближено к ментальному образу, эксплицируемому словом holiday, о чем свидетельствует отсутствие существенных различий в их дистрибуции. Ср.:
-
(61) Therefore let us keep the feast, not with old leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth3 (1 Cor. 5: 8, King James' Bible, 1611);
-
(62) Therefore let us keep the holy-day, not with old leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Cor. 5: 8, King James' Bible [alternate translation], 1611) [OED, 2009].
В XIV в. возникает еще одна лексема, ословливающая идею праздничного дня - существительное festival (от ст.-фр.уЕуйш/- «праздничный»; ср. лат. festivus), первоначально реализующее свое темпоральное значение в рамках составного существительного festival-day. Ср.:
-
(7) On candelle ... brennend euery festiuale dai thorow-out ]эе yere4 (Eng. Gilds (1870), 1389 r.);
-
(8) The festyual dayes be ordeyned for to serue god onely5 (W. Caxton, Faytes of A. IV. xiv. 270, 1489 r.);
-
(9) How many festiuall hygh dayes to worship saints haue thei made themselues6 (Joye, Exp. Dan. Vii. 108/2, 1545 r.);
-
(10) Such dayes are festiuall to those Saincts7 (Fulke, Answ. Chr. Prot. (1577) 23 1568 r.) [OED, 2009].
В приведенных примерах сочетание festival day / days реализует свое темпоральнособытийное значение в аксиологически насыщенном контексте, эксплицирующем онтологическую соотнесенность праздника с миром горним. Конкретное имя candelle («свечи») метонимически актуализирует мысль о церковном богослужении, посвященного Единому Царю веков, «Который обитает в неприступном свете» (1 Тим. 6: 16). Эмфатическая инфинитивная конструкция цели «to serue god onely» («на служение одному только Богу») отсылает к образу того, каким должно быть деятельностное наполнение праздника. Слово saints / Saincts («святые») указывает на тех, кто является «перед лицом мира доказательством иного мира и его вечных благ» [Осипов, 1995, с. 19].
В тексте имена праздников нередко включают дополнительные элементы, эксплицирующие содержание отдельных фреймов, входящих в состав ментальной структуры концепта «праздник». Ключевой фрейм «предецентное событие», служащий концептуальным основа-
Научный журнал № 1,2017 75 нием внутренней формы названия праздника1, актуализируют развернутые конструкции, включающие событийные имена. Ср.:
(И) To-morrow is the festival of the nativity of our blessed Redeemer, when the church has appointed prayers and thanksgivings to be offered up by her children2 (IF. Cooper, “Pioneers”, 1845) [COHA, 2015].
Средством репрезентации событийно-процессуального фрейма «празднование» служат нарративы, намечающие основные грани ассоциативного поля праздника. Ср.:
-
(12) ... chimes, welcoming the birth of the Saviour, are happy features of the Christmas festival. In many places the clang of bells is heard for hours on Christmas Eve3 (Christmas comes, 1939) [COHA, 2015].
Эмотивная составляющая праздника и его темпоральная отнесенность актуализируются посредством многообразных определений качественной (преимущественно, оценочной) и временной семантики. Ср.: happy («счастливый»), blessed («благословенный»), simple («простой»), long-awaited Christmas festival («долгожданный праздник Рождества»), great Thanksgiving festival («великий праздник Благодарения»), beautiful festival of Pentecost («прекрасный праздник Пятидесятницы»), solemn («торжественный»), jubilant festival of Easter («ликующий праздник Пасхи»), Ср.:
-
(13) It was near the time of the solemn festival of Easter, - the time when Nature seems to rise from the grave, and the Earth puts on anew her garb of youth and beauty4 (Baldwin, J. “Hero tales”, 1900);
-
(14) Next Sunday is the long-awaited Christmas festival and we look forward with pleasure to seeing you here again5 (“Builders Bridge”, 1945) [COHA, 2015].
В XVIII-XX bb. границы концептуального пространства, соотносимого с ментальным образом церковных праздников, чтимых носителями английского языка, сужаются. Отражением этого когнитивного сдвига становятся нескольких взаимосвязанных процессов, затрагивающих синонимический ряд слов holiday -feast -festival.
В когнитивной структуре, лежащей в основании семантики ключевой лексемы holiday, ведущим элементом становится темпорально-событийный фрейм «день, официально свободный от работы». В современном английском языке лексема holiday выступает лексикализи-рованным прототипом центральной, ядерной части концепта «христианский праздник», указывая на официальный государственный праздник, являющийся нерабочим днем.
Согласно данным Исторического корпуса американского английского языка (Corpus of Historical American, 1810-2009 гг.), дистрибуция лексемы holiday в рамках генитивных конструкций (N. + holiday) ограничивается небольшим числом устойчивых сочетаний, включающих имена наиболее чтимых в американском сообществе христианских праздников - Christmas («Рождество»), Easter («Пасха»), Thanksgiving («день Благодарения»), В этих сочетаниях лексема holiday актуализирует комплексное темпорально-событийное значение «праздничного периода». Ср.:
-
(15) Here in America, among all the cheery reminders of the uninterrupted Easter holiday, it was hard to tell that there was a war on6 (Conant, J., The irregulars, 2008) [COHA, 2015].
Лексема feast отсылает в современном английском языке к ментальным образам преимущественно тех христианских праздников, которые являются принадлежностью иных культурных традиций, основанных не на протестантском, но католическом вероучении, наир., the feast of Transfiguration («праздник Преображения Господня»), the feast of Assumption («праздник Успения»), the feast of Epiphany («праздник Крещения Господня»), the feast of the Nativity («праздник Рождества Христова»), Ср.:
-
(16) In Rome the Feast of the Epiphany is celebrated annually in the Piazza Navona, where toys dangle invitingly from hundreds of gaily decorated stalls1 (D. G. Spicer, The Book of Festivals, 1944) [COHA, 2015].
Аналогичным образом лексема festival актуализирует значение религиозного праздника, преимущественно, по отношению к торжествам, характерным для других языковых сообществ. Ср.:
-
(17) Miss Eckenstein calls attention to the description, given early in the last century by the English traveler Blunt, of the festival of Saint Agatha as he saw it in Catania, and, I may add, as it is celebrated there to this day2 (The Atlantic Monthly, 1910) [COHA, 2015].
Ценностные трансформации, происходящие в американском сообществе, приводят не только к сужению ментального пространства, занимаемого образом христианского праздника в картине мира носителей английского языка, но и к изменению содержательного наполнения фреймов, входящих в состав концепта «христианский праздник». Наиболее значительные смещения затрагивают событийно-процессуальный фрейм «празднование». Модификация праздничной культуры сопровождается усилением экономического значения и маркетинговой нагрузки праздника, увеличением его утилитарного характера, активным развитием индустрии «праздничной символики». Из целостного текста праздника выхватываются экономически релевантные составляющие - подарки, игровые моменты, развлечения. Уступая место «праздничности» праздник превращается в процесс потребления [Орлов, 2004, с. 10; Медведева, 2009, с. 15; Филатова, 2013, с. 17-18].
В англоязычной картине мира процесс «утилитаризации» праздника приводит к трансформации ментального образа праздника Рождества Христова, в котором значительно усиливается экономическая составляющая. Ср.:
-
(18) By the 1870s <.. > “department stores often outdid the churches in religious adornment and symbolism, with pipe organs, choirs,... statues of saints and angels”. Indeed, the holiday was on its way to becoming <...> a “grand festival of consumption”. By the early 20th century, stores had largely abandoned overtly religious motifs, < ..> but they “continued to undergo marvelous alteration at holiday time, becoming strikingly ‘other’ places.” As competition for the attention of holiday shoppers escalated, so did the Christmas display^1 (Jeffrey L. Sheler, In search of Christmas, 1996) [COHA, 2015].
Отождествление праздника и процесса потребления, эксплицируемое в приведенном примере метафорической конструкцией “the holiday [was becoming] a grand festival of consumption”, свидетельствует о смещении ценностного ядра в образе праздника Рождества Христова. Праздник становится «поводом для продажи и покупки вещей, оказывается празд- ником потребления в обществе, в котором вещи и потребление превратились в государственные ценности» [Жигульский, 1985, с. 293].
«Коммерциализация» праздника находит свое языковое отражение в дистрибуции имени Christmas («Рождество»), которое с 1860-х гг. начинает вступать в сочетания с именами экономической, прежде всего, торговой семантики, наир., Christmas shopping («предрождественское хождение по магазинам», с 1863 г.), Christmas shoppers («предрождественские покупатели», с 1875 г.), Christmas rush («предрождественская давка в магазинах; рождественский ажиотаж», с 1915 г.), Christmas bonus («рождественская премия», с 1928 г.), Christmas sales («предрождественские продажи», с 1932 г.), Christmas money («деньги, получаемые перед Рождеством»), Christmas orders («рождественские заказы»), Christmas trade («предрождественская торговля»), Christmas package («рождественская упаковка»). Ср.:
-
(19) Most stores expected a drop in dollar volume, but still anticipated a big and profitable Christmas rush1 (Time Magazine, 5.12.1949);
-
(20) Around the country, retailers reported booming Christmas sales, and the leading economic indicators were up for the 14th consecutive month2 (Time Magazine, 12.12.1983) [COHA, 2015].
Заключение
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что концепт «христианский праздник», выступающий в исторической перспективе прототипом категории «праздник» в картине мира носителей английского языка, представляет собой сложное ментальное образование. Его совокупная структура включает следующие взаимосвязанные фреймы: темпоральный (понятие о «дне праздника»), событийный (фрейм «прецедентное событие»), событийнопроцессуальный (фрейм «празднование») и эмоциональный (фрейм «радостное эмоциональное состояние»).
На словесном уровне ментальный образ христианского праздника представлен тремя ключевыми репрезентантами - исконно английским (англосаксонским) субстантивом holiday и заимствованными в XIII-XIV вв. из французского языка существительными feast, festival. Максимально приближенные друг другу с точки зрения передаваемого ими мыслительного содержания в среднеанглийский и ранненовоанглийский периоды, эти слова с течением времени начинают репрезентировать различные сегменты концепта «христианский праздник». В современном английском языке лексема holiday служит средством вербализации центральной (ядерной) части концепта, указывая на ограниченное число официальных государственных праздников, являющихся нерабочими днями (наир. Christmas holiday, Easter holiday, Thanksgiving holiday, Whitsuntide holiday). Синонимичные существительные feast, festival специализированы на вербализации околоядерной и периферийной областей концепта «христианский праздник», именуя те христианские праздники, которые являются принадлежностью иных, не основанных на протестантском вероучении, культурных традиций (напр.уе<25/ of Transfiguration, festival of St. Benedict). Разграничение дистрибуции лексем, оформляющееся в XVIII-XX вв., отражает уменьшение совокупного концептуального пространства, соотносимого с ментальным образом церковных праздников в англоязычном обыденном сознании. Одновременно изменяется содержательное наполнение фреймов, входящих в концепт «христианский праздник». Наиболее существенные трансформации затрагивают событийнопроцессуальный фрейм «празднование», в котором на первый план выдвигается инферентная информация об «утилитарной», торгово-коммерческой составляющей праздника.
Список литературы Образ христианского праздника в англоязычной картине мира
- Алефиренко Н.Ф. Событийная синергетика имплицитности текста в лингвопоэтическом освещении // Вестник ТГГПУ, 2011, № 1 (23). С. 114-119.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры, 1999.
- Ванченко Т.П. Культуролого-антропологические основания праздника: семантико-семиоти-ческие аспекты: Автореф. дис.. д. философ. н. Тамбов, 2009.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. Москва: Искусство, 1991.
- Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые. Размышления социолога. Москва: Прогресс, 1985.