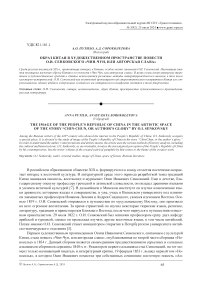Образ Китая в художественном пространстве повести О.И. Сенковского "Чин-чун, или авторская слава"
Автор: Путило А.О., Сороколетова А.Д.
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (92), 2024 года.
Бесплатный доступ
Среди русских писателей XIX в., проявляющих интерес к Китаю, особое место занимает О.И. Сенковский. Настоящая статья посвящена изучению образа Китая в его повести «Чин-Чун, или авторская слава». В целях осмысления авторских трактовок и художественных средств в статье используются различные методы литературоведческого анализа, в том числе культурно-исторический. О.И. Сенковский как востоковед иронизирует над стереотипическим восприятием Китая его современниками, однако идейное содержание созданного им сатирического памфлета сводится к теме творчества.
О.и. сенковский, сатира, востоковедение, образ китая, пространство художественного произведения, русская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/148329335
IDR: 148329335 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Образ Китая в художественном пространстве повести О.И. Сенковского "Чин-чун, или авторская слава"
№ 3(92). 25 июля 2024 ■
В российском образованном обществе XIX в. формируется и к концу столетия постепенно возрастает интерес к восточной культуре. В литературной среде этого периода разработкой темы традиций Китая занимался писатель, востоковед и журналист Осип Иванович Сенковский. Еще в детстве, благодаря своему опекуну профессору греческой и латинской словесности, он овладел древними языками и увлекся античной культурой [7]. В дальнейшем в Минском институте он изучил классические языки древности, которыми владел в совершенстве, и уже, учась в Виленском университете под влиянием знаменитых профессоров Иоакима Лелевея и Андрея Снядецкого, увлекся изучением Востока. Осенью 1819 г. О.И. Сенковский отправился в путешествие по мусульманскому Востоку, оно произвело на него огромное впечатление. За время странствий он изучил некоторые тюркские языки, религию, литературу, традиции и нравы народов Ближнего Востока, после чего вернулся к путешествию известным ориенталистом. 29 июля 1822 г. О.И. Сенковский был назначен профессором сразу двух кафедр: арабской и турецкой, однако он продолжал изучать другие восточные языки, в том числе китайский. Позже именно О.И. Сенковский станет инициатором открытия в Петербургском университете китайско-манчжурского отделения [5].
Первым художественным произведением Осипа Ивановича Сенковского, связанным с культурой Китая, стала повесть «Чин-Чун, или авторская слава», опубликованная во второй части сборника «Новоселье» в 1834 г. Данный сборник является самым ранним предшественником серьезных и солидных альманахов-сборников середины 1840-х гг. Редактором первого альманаха стал Сенковский, на тот момент только начинающий писатель и литературный критик. 19 февраля 1833 г. вышел первый том «Новоселья», в котором Осип Иванович поместил три собственных сочинения: восточную повесть «Ан тар», критические статьи «Незнакомка» и «Большой выход у сатаны», создавшие много разговоров своей полемической направленностью и необычной художественной формой, напоминавшей одновременно фантастический рассказ и памфлет. В 1834 г. вышел второй том «Новоселья», и хотя по количеству страниц он не уступал первой части, но, тем не менее, получился гораздо скромнее. Обе части пользовались успехом у читателей и их мгновенно раскупили [10].
Интерес к личности и произведениям О.И. Сенковского возник еще при его жизни, однако в литературной среде, он довольно долго не мог занять достойного места. Самое известное его противостояние было с Николаем Васильевичем Гоголем, который высказывался достаточно резко: «В критике г-н Сенковский показал отсутствие всякого мнения … в его рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса – вовсе никакого» [2, с. 165] или «Можно быть уверенным, что г-н Сенковский сказал это без всякого намерения из одной опрометчивости, потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей» [Там же, с. 171]. Тем не менее, сегодня с уверенностью можно сказать, что личность и творчество О.И. Сенковского – это знаковое явление времени, достойное научного осмысления.
Актуальность работы заключается в малоизученности произведений О.И. Сенковского, современники автора создали достаточно большое количество критических отзывов о его творчестве, но комплексные литературоведческие исследования не проводились. Творчество востоковеда интересно также потому, что он подходил к изучению Китая с научной точки зрения, опираясь на результаты личных наблюдений, полученных в ходе командировок, в то время как большинство русских писателей XIX в. создавали на страницах своих произведений популистский образ Китая, т. к. получали информацию из вторичных источников, например, из произведений Европейской литературы.
Мы не находим полноценных текстов XIX в., которые были бы посвящены исследованию и описанию культуры Китая. Значительный массив источников – заметки путешественников [5], иллюстративные вкрапления культурно-исторических моментов и публикации переводов классической китайской словесности [1]. В связи с этим представления о Китае в этот период часто имели некий «сказочный» характер, весьма далекий от реальности. Для толкования слов, приведенных в произведении О.И. Сен-ковского «Чин-Чун, или авторская слава» [8], обратимся к словарю В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» [11], т. к. он создавался с 1819 г. и отражает восприятие восточной культуры у современников автора.
Как уже сказано выше, О.И. Сенковский имел глубокие знания восточной культуры и личный опыт посещения Китая, однако в русском образованном обществе тема востока оставалась в этот период столь же малоизученной, сколь и интересной, в результате множились различные мифы, данная ситуация казалось автору забавной. В начале своей повести «Чин-Чун, или авторская слава» [8] Осип Иванович пишет: «Почтенный хозяин Новоселья (Смирдин) просит меня написать ему, для начала книги, повесть, в которую входили бы словесность и любовь…» [Там же]. Далее автор рассуждает о том, как в одном произведении могут сочетаться два таких противоположных мира, что повесть получится «страшная» и, беря во внимание труды У. Шекспира, приходит к выводу, что «шалить с сатирою» и смотреть на «игру бесконечной комедии» – это вздор. Лучше писать так, как ты видишь его на сцене: «как было там или быть не может» [Там же]. Произведение О.И. Сенковского открыто постулируется как сатира на современное русское образованное общество, при этом создаваемое пространство Китая имеет иронический ореол и пародийный характер.
Образ китайцев в текстах О.И. Сенковского описывается максимально стереотипно для жителей России, особо подчеркивается: желтоватый цвет кожи, крошечный разрез глаз, маленький размер ножки у девушки: «жил в Пекине некто Чин-чун, природный мандарин, молодой человек прекрасный собою, с чудесными маленькими глазками, плоским носом и отлично выдавшимися скулами» [Там же], «…не мог тоже не ощутить в себе сладостного пламени при виде этих тоненьких, почти неприметных, роскошно прорезанных вкось глазок, этого нежно-желтого как опал личика, этого ротика, похожого на цветок яблони, этой ножки, которую можно было обуть в грецкий орех» [Там же]. Вышесказанным подчеркивается экзотичность самих жителей Китая, их отличия от населения России и Европы. Гротескное приуменьшение черт лица наиболее сильно заостряет внимание на особенностях внешности.
Первый восточный образ, который мы встречаем, – «мандарин», «в феодальном Китае: крупный чиновник» [11], при этом охватывая не только чиновников, но и всех представителей образованного дворянства. Далее «опал», это драгоценный камень, который очень ценился в Индии и Китае в XIX в. Он невероятно хрупкий и капризный, от грубого воздействия он может не только рассыпаться, но и поменять цвет, тем самым потеряв свою ценность. Так, неудивительно, что главный герой сравнивает лицо своей возлюбленной с таким роскошным камнем. Все вышесказанное подтверждает определение из словаря В.И. Даля: «ОПАЛ м. ценный камень, коего лучший вид благородный или молочный опал, млечной белизны, с огнистым, радужным отливом» [Там же].
Так же мы встречаем сравнение ротика героини с цветком яблони. В Китае яблоко является символом мира и согласия по причине созвучия китайских слов «яблоня» и «мир». Яблоневый цвет встречается как декоративный мотив и символизирует женскую красоту. К особенностям портрета китайцев так же относится упоминание Осипа Ивановича Сенковского про необыкновенно длинные ногти, которые считались эталоном красоты в Китае: «Чин-чун написал Оду в честь ногтей прелестной Цинь-цинь-цюнь, которые были необыкновенно красивы и великолепны, имея три вершка с четвертью длины, и эта Ода удалась ему чрезвычайно. Дядя, престрогий критик, признал сам, что это лучшие стихи, какие только есть в Китайской Словесности о ногтях» [8]. Мужчины и женщины из высших слоев общества отращивали длинные ногти как символ богатства: это показывало, что им не нужно трудиться руками. Культ длинных ногтей привел к появлению традиций и суеверий, связанных с уходом за ними. Известный доктор Сунь Сымяо эпохи Тан пришел к выводу, что подравнивать ногти можно лишь в пять определенных дней в году. Когда люди умирали, им обрезали ногти и закапывали рядом. Согласно «Книге обрядов», ногти помещали в гробницу умершего или хоронили отдельно вместе с покойным [6, с. 121].
Образ возлюбленной дополняется стериотипичным описанием ступней красавицы: «ножки, которую можно было обуть в грецкий орех» [8], отсылает нас к обычаю бинтования ног у девочек, практиковавшимся в Китае, особенно в аристократической среде. Такие ноги традиционно назывались «золотыми лотосами». От размера ступни зависел престиж невесты, к тому же считалось, что принадлежащей к высокому обществу даме не следует ходить самостоятельно. Это бессилие, неспособность к передвижению без посторонней помощи составляло, по литературным свидетельствам, одну из привлекательных черт женщины-аристократки: здоровые и недеформированные ноги ассоциировались с крестьянским трудом и «подлым происхождением». Некоторые мужчины предпочитали никогда не видеть женскую ногу без повязки. Классическая фраза из семи иероглифов так описывает идеальную женскую ступню: «тонкая, маленькая, острая, изогнутая, благовонная, мягкая, симметричная» [4, с. 61]. Акцентируя физиологичность любви героя, автор описывает сцену милования возлюбленных: «Чин-чун бросился на колени, положил себе в рот обе её ножки, и плакал целый час от умиления. Она была восхищена его любовию. Он был восхищен ею, собою и всем, что видел и слышал» [8]. В китайской культуре деформированные стопы считались очень эротичными, в то же время вид женской ноги без обуви и бинтов считался неприличным, поэтому подробное описание любовной сцены было призвано эпатировать публику.
Русское просвещенное дворянство знало некоторые из перечисленных выше фактов о китайской культуре, на это указывают тексты путешественников [3], но воспринимались они довольно поверхностно, как занимательная экзотика. В целом интерес к Китаю в XIX в. редко перерастал в системное изучение, а все чаще сводился к светским обсуждениям, именно на это и ориентировался О.И. Сенков-ский, насыщая пространство своего сатирического произведения китайским колоритом.
Однако китайская образность является в повести лишь фоном для выражения идеи о жестокости общества и критики по отношению к литераторам. Несколькими акцентами О.И. Сенковский подводит читателя к осмыслению идеи литературного творчества: «Судя по нравоописательным Романам того края, в Китайских правах существует пропасть помех к женитьбе: от первого знакомства с жен- щиной до свадьбы с нею, средним числом, всегда должны вы пройти три тома препятствий и отсрочек. Это большое неудобство, и от этого, я думаю, в новой Китайской школе, героини раждают детей в половине, иногда и в начале повести. Но Китайские нравы так уж созданы!» [8]. Автор ссылается на китайский брачный ритуал (описанный в трактате «Ли цзи», входящем в «Пятикнижие»), который состоит из шести этапов и напоминает исконно русский обряд женитьбы. В Российской империи в XIX в. от него уже отошли, но в Китае приверженность народным традициям в вопросах брака сохранялась до ХХ в. Кроме прямых аллюзий к фольклорным источникам этот фрагмент содержит замечание относительно содержания китайской любовной литературы, которая в действительности была не знакома читателям XIX в., однако им хорошо были знакомы любовные романы соотечественников, над содержанием которых на самом деле иронизирует автор.
Далее автор развивает тему литературного творчества и критики: «В Китае считают неблагородным оправдываться от журнальных нападок, и он принужден был молчать. Потом стали печатать особыми книжками безименныя на него критики, которыя по-Китайски называются па-сы-кви-ли». Слово «пасквиль» происходит от итальянского топонима Pasquino, оно с некоторыми изменениями перешло в русский язык и зазвучало как «пасквили» или «пашквили», обозначая оскорбительное, клеветническое произведение в публицистической или беллетристической форме, близкой к памфлету. В.И. Даль дает толкование этому слову как: «безыменное ругательное письмо, поносное сочиненье, надпись; прибитый где, или разосланный лист, с ругательною, безыменною насмешкой» [11]. Приписывание исконно итальянскому слову китайского происхождения – это ирония над склонностью русского дворянства мифологизировать неизвестные или непонятные элементы иной культуры, а также колкость в адрес популярных журнальных критиков, которые в большинстве своем не имели образования уровня О.И. Сенковского, но довольно резко отзывалась о его творчестве. Вероятно, рецензии критиков и стали поводом к созданию повести «Чин-Чун, или авторская слава». Главный герой в ней ученый, философ и писатель, который с каждым следующим витком развития своего таланта теряет социальные связи: друзья и родственники его сторонились, возлюбленная к нему охладела, автор называет этот процесс «неминуемое следствие страсти его к литературной славе» [8].
В итоговой части повести О.И. Сенковский упоминает философию Конфунцианства: «Вы мандарин, а не помните того, что сказал Конфуций в Да-сио: “Честностью называем мы то, чтобы не обманывать другого; мудростью называем мы то, чтобы не обманывать самого себя”» [Там же]. В императорском Китае конфуцианство играло роль основной религии и принципа организации государства свыше двух тысяч лет в почти неизменном виде, вплоть до начала ХХ в. Центральными проблемами, которые рассматривает конфуцианство, являются вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных качествах, которыми должен обладать правитель и подчинённый и т. д. «Да-сио» – непосредственная ссылка на один из наиболее популярных трактатов Конфуция, сейчас обычно название транспонируется как «Да Сюэ». При этом в указанном трактате, мы не находим что-либо, что можно назвать хотя бы условно соответствующим приведенной О.И. Сенковским цитатой. Однако находим ее в сборнике «Цветы нравственности, собранные из лучших писателей, к назиданию юношества, Михаилом Третьяковым» [12], который был издан в 1835 г., что говорит о исконно русском происхождении афоризма. Вероятнее всего он принадлежит перу О.И. Сенковского, который не желает обманываться, осмысляя свое положение в литературной среде.
Осип Иванович Сенковский насыщает свою повесть образами китайской культуры, этому способствовал его научный и политический интерес к вопросам Востока, а также возможность своими глазами увидеть жизнь китайского народа. Убеждение Сенковского: «про Восток можно писать только хорошо зная его» [8], позволяет нам говорить о предельной точности произведений, их законченности и приближенности к реальности. Однако, идейное содержание «Чин-Чун, или авторская слава» [Там же] сводится к теме творчества. В ней постулируется несовместимость занятий литературой, писательской известности и человеческого счастья. Жанрово произведение близко сатирическому памфлету, т. к. направленно на обличительную критику нравов просвещенного дворянства. Автор соединяет китайскую «декорацию» с сатирическим стилем, чтобы отразить беспокоящие его современные явления.
Список литературы Образ Китая в художественном пространстве повести О.И. Сенковского "Чин-чун, или авторская слава"
- Ван Ичань Переводы и исследования китайской классической прозы в России (XVIII–XX века) // Проблемы востоковедения. 2019. № 2(84). С. 75–81.
- Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году // Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8. Статьи. 1952. С. 156–176.
- Ковалевский Е.П. Путешествие в Китай. СПб., 1853.
- Колорит страны дракона (научно-популярное издание) / авт.-сост.: Р.В. Вахненко, В.Л. Ушакова, Н.Б. Овчинникова. Владивосток: Дальнаука, 2015.
- Кошелев В.А., Новиков А.Е. Закусившая удила насмешка // Сенковский О.И. Сочинения Барона Брамбеуса. М.: Сов. Росссия, 1989. С. 5–7.
- Ли цзи // Древнекитайская философия. Собрание текстов: в 2 т. Т. 2. / Вступ. ст., пер. с кит. И.С. Лисевич, В.Г. Буров и Р.В. Вяткин. М., 1973, С. 99–140.
- Реймблат А.И. Осип Иванович Сенковский // Русские писатели: 1800–1917: Т. 1–5. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. T. 5. C. 572.
- Сенковский О.И. Собр. соч.: в 9 т. СПб.: В типографии Императорской академии наук, 1858–1859. URL: http://az.lib.ru/s/senkowskij_o_i/ (дата обращения: 01.12.2023).
- Смирдин А.Ф. Новоселье / ред. Сенковский О.И. 1834.
- Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина / ред. Н.С. Ашукин. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1962.
- Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] / [соч.] Владимира Даля. 3-е изд., испр. и знач. доп., изд. под ред. [и с предисл.] проф. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. Т. 1–4. М.: Т-во М.О. Вольф, 1903–1911. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_02000000554 (дата обращения: 01.12.2023).
- Цветы нравственности, собранные из лучших писателей, к назиданию юношества, Михаилом Третьяковым. М.: Университетская типография, 1835.