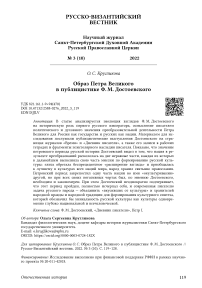Образ Петра Великого в публицистике Ф. М. Достоевского
Автор: Кругликова Ольга Сергеевна
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 (10), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется эволюция взглядов Ф. М. Достоевского на историческую роль первого русского императора, осмысление писателем политического и духовного значения преобразовательной деятельности Петра Великого для России как государства и русских как нации. Материалом для исследования послужили публицистические выступления Достоевского на страницах журналов «Время» и «Дневник писателя», а также его записи в рабочих тетрадях и фрагменты эпистолярного наследия писателя. Показано, что значение петровского периода русской истории Достоевский видел в том, что нация в результате преобразований раскололась на две неравные части, каждая из которых в дальнейшем выполняла свою часть миссии по формированию русской культуры: элита обретала беспрецедентное «расширение взгляда» и приобщалась к лучшему в культурах всех наций мира, народ хранил святыню православия. Петровский период закрепостил одну часть нации во имя «окультуривания» другой, но при всех своих негативных чертах был, по мнению Достоевского, необходим и закономерен. При этом Достоевский неоднократно подчеркивает, что этот период пройден, полностью исчерпал себя, и современная писателю задача русского народа - объединить «вкусивших от культуры» и хранителей народной правды и народной традиции для формирования культурного синтеза, который обозначил бы уникальность русской культуры как культуры одновременно глубоко национальной и всечеловеческой.
Ф. м. достоевский, "дневник писателя", петр i
Короткий адрес: https://sciup.org/140297231
IDR: 140297231 | УДК: 821.161.1-9+94(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_3_119
Текст научной статьи Образ Петра Великого в публицистике Ф. М. Достоевского
Funding: The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-42018.
Почвенничество как социально-философская система вызывает в последнее время все более напряженный интерес исследователей. И в контексте осмысления идей евразийства и его современного политического воплощения1, и в сфере философских размышлений о формировании русской национальной идентичности, и в рефлексии процессов глобализации вопрос о сущности почвенничества остается актуален. Пытаясь проанализировать содержание почвенничества как социальнофилософской системы, определить его истоки и границы, мы должны обратиться к вопросу о том, как создатель почвенничества Ф. М. Достоевский осмыслял исходную точку, зарождение той проблемы, на решение которой были направлены духовные искания почвенников. В объявлении об издании журнала «Время», которое можно в каком-то смысле считать первым манифестом почвенничества, было сказано, что цель почвенников — примирение цивилизации с народным началом и тем самым упразднение старинного раздора славянофилов и западников: «Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом… Но теперь разъединение заканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами… Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых, выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных»2.
Идея воссоединения национальной традиции с европейской образованностью, положенная в основу почвенничества, «примирение цивилизации с народным на-чалом»3, мыслилась Достоевским как возможность уникального культурного синтеза, который и будет тем новым словом, что призвана явить собою в мире Россия. Но это требовало преодоления «домашнего раздора» славянофилов и западников. Резко обозначался и источник этого раздора — Петровская реформа. Образ Петра Великого как исторического деятеля, каким он рисуется творческому взору Достоевского, отношение писателя к первому императору и его эпохе становятся, таким образом, важнейшими элементами почвеннической доктрины.
О Петре Достоевский высказывался различно — особенно ярко это выражается в неизданных материалах, в знаменитых записных тетрадях, где автор не был стеснен регламентациями публичного диалога и позволял себе высказываться более определенно и резко. В тетради 1874–75 гг. Достоевский делает пометки о «второстепенности и мелочности взглядов Петра», критикует императора за отсутствие экономического чутья и непонимание идеи православия и даже позволяет себе такие резкие суждения, как «развратник и нигилятина… Изверг — сыноубийца»4. И в то же время в тетрадях 1876–77 гг. Петр предстает как «великий преобразователь, взглянувший на Россию таким широким и работящим помещиком»5. За несколько лет до этого в письме А. Н. Майкову Достоевский предлагает другу-поэту сюжет для стихотворной баллады, которая давала бы «целую горячую картину» духовной жизни Европы рубежа XV–XVI столетий и множество параллелей с русскими картинами, «но с намеками об будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества, сознанных по-западному, а не по-нашему…», и предполагает, что «не надо кончать былины на Петре, например, о котором

Петр I. Худ. В. А. Серов, 1907 г.
непременно нужно особенное хорошее слово (курсив мой. — О. К. ) и хорошая поэма-былина с смелым и откровенным взглядом, нашим взглядом»6.
Конечно, полифоническое звучание всех идей и образов — одно из самых характерных свойств творчества Достоевского, что неоднократно отмечалось исследователями, начиная с М. М. Бахтина, но, тем не менее, при всей пластичности и кажущейся изменчивости, образы и идеи Достоевского раскрывают системное и цельное мировоззрение, лежащее в их основе. И выявить его — работа для читателя, и работа весьма непростая. Услышать голос великого мыслителя непросто, ведь «голос Достоевского для одних исследователей сливается с голосами тех или иных из его героев, для других является своеобразным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, наконец, он просто заглушается ими»7. Виной тому специфика художественного творчества. Социально-философская концепция Достоевского выражена преимущественно в художественных произведениях, опосредованно, через сюжет, через слова, поступки и оценки его героев. Это всегда тревожило самого писателя.
В одном из писем К. П. Победоносцеву, написанных в период работы над романом «Братья Карамазовы», Достоевский раскрывает свой замысел выразить положительную идею, которая давала бы ответы на вопросы, поставленные оппонентами Достоевского и вложенные им в уста его литературного героя Ивана Карамазова. В образе Ивана писатель умышленно в концентрированной форме воплощает черты того движения, которому желал бы противостоять, но не стремится упростить этот образ до собрания негативных черт, напротив, он рисует читателям Ивана во всей его кажущейся правоте и обаятельной притягательности. Именно поэтому главная тревога писателя состоит в том, будет ли положительная идея, выраженная в образе Алеши Карамазова, «достаточным ответом», поскольку ответ этот «не прямой, не на положения, прежде выраженные (в «В<еликом> инквизиторе» и прежде) по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо противуположное выше выраженному мировоззрению, — но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине. Вот это меня и беспокоит, то есть буду ли понятен и достигну ли хоть каплю цели. А тут вдобавок еще обязанности художественности: потребовалось представить фигуру скромную и величественную, между тем жизнь полна комизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее, так что поневоле из-за художественных требований принужден был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтоб не повредить художественному реализму»8.
«Буду ли понят» — вечный трепет Достоевского-писателя, который и порождал стремление его к журнализму. Журнализм, как отмечает В. Захаров, «был идеальным творческим устремлением Достоевского»9. Н. Н. Страхов подчеркивал, что Достоевский был «вполне журналист… с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца»10. Казалось бы, журналистика давала возможность прямого доверительного разговора с читателем, свободного от необходимости подчиняться требованиям художественности. Но, освобождая от одних ограничений, журнальная публицистика накладывала другие — желая найти наиболее короткий путь к читателю, в публицистике Федор Михайлович умышленно придерживался фельетонной манеры изложения, по мнению Н. Н. Страхова «иногда даже насиловал себя, стараясь быть борзописцем и фельетонистом ради принесения общей пользы»11.
Поэтому трактовка образа Петра Великого определяется во многом спецификой публицистической манеры Достоевского, особенно ярко отразившейся в публикациях зрелого периода творчества, прежде всего, в «Дневнике писателя». «Вечные вопросы» не существовали для Достоевского в отрыве от повседневности, повседневность была их живым и непосредственным выражением, так что в журналистике 1870-х гг. Достоевский попытался примирить вечное и скоротечное; по выражению Страхова, «соединял важность мысли с простотою и легкостью болтовни»12.
Поэтому и высказывания Достоевского о Петре Первом кратки, образны и афористичны, он появляется на страницах «Дневника писателя» как символ определенных исторических процессов, получающих свое развитие и отражение в современной писателю политической реальности. При этом трактовка смысла преобразовательной деятельности царя у Достоевского глубоко оригинальна. Говоря о цене Петровских реформ, Достоевский уходит от традиционных для журналистики этого периода мотивов жестокости репрессивных мер преобразователя, внедрявшего палочное просвещение; «дороговизна» реформ для Достоевского — в том духовном неустройстве, которое вызвал культурный раскол европеизированной элиты с народом.
Важно отметить, что «Петровская эпоха» для Достоевского имеет очень точно обозначенные хронологические границы, чего мы не встретим в публицистике других авторов. Все отмечают Петровскую реформу как точку начала новой эпохи в истории России, но никто не говорит о том, что эта эпоха, порожденная Петром, кончилась; современники Достоевского ощущают себя живущими в этом, установленном Петром, периоде русской истории. А Достоевский на страницах «Дневника писателя» неоднократно восклицает: «Но теперь, с уничтожением крепостного права, закончилась реформа Петра»13; «Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории»14. Итак, по Достоевскому «Петровская эпоха» — это почти двести лет, протекшие от воцарения Петра до манифеста об освобождении крестьян, и коль скоро у этого периода есть четкие
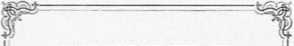
ДПЕВППКЪ
ПИСАТЕЛЯ
ЗА 18*76 Г.
границы, он должен быть наполнен и одухотворен какими-то конкретными идеями, которые возникли, расцвели и исчерпали себя в эти полтора столетия. Таких идей, определявших смысл Петровской эпохи, Достоевский обозначает две.
О. X. Доетоевскага
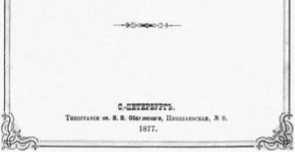
«“Дневник писателя” Ф. М. Достоевского» за 1876 г.
Первую из них писатель максимально точно характеризует, вступая в полемику с публицистом «Русского вестника» В. Г. Авсеенко, который позволил себе на страницах журнала М. Н. Каткова несколько критических высказываний о русском народе как пассивной и инертной силе, скептически отнесясь к идее Достоевского о превосходстве народной правды над образованностью высших классов. Автор «Дневника писателя» определяет Петровскую эпоху как время закрепощения одной части нации во имя просвещения другой. Достоевский патетически восклицает, обращаясь к своему оппоненту и обвиняя его в неблагодарности к народу: «…Стоило вас культурить, чтоб взамен того развратить народ… Неужели ж народ наш, закрепощенный именно ради Вашей же культуры…, после двухсотлетнего рабства своего заслужил от Вас, от окультурившегося человека, вместо благодарности или даже жалости, лишь один только этот высокомерный плевок… За Вас же он был двести лет связан по рукам и по ногам, чтобы Вам ума из Европы прибыло, и вот Вы, когда Вам прибыло из Европы ума (?), избоченившись перед связанным и оглядывая его с культурной высоты своей, вдруг заключаете о нем, что он „плох и пассивен и мало выказал деятельности (это связанный-то), а проявил лишь некоторые пассивные добродетели…“»15.
В вопросе о культуре звучат интересные ноты, во многом предвосхищающие идеи, сформулированные в начале XX в. Освальдом Шпенглером, о принципиальном различии понятий «цивилизация» и «культура». Хотя в разрозненных публицистических выступлениях, письмах и черновых записях Достоевского нельзя проследить четкого терминологического разделения, все-таки это различие прочитывается. Из Европы образованный класс принял не культуру, которая всегда органически связана с жизнью народа, а именно цивилизацию, не дух и смысл, а внешние атрибуты. «Что же культурного-то, по-вашему, мы принесли народу: перчатки, каре-ты»16, — записывает Достоевский в тетради 1875–76 гг. Сходную идею развивает писатель в одном из писем К. П. Победоносцеву: « Культуры нет у нас (что есть везде), дорогой Константин Петрович, а нет — через нигилиста Петра Великого. Вырвана она с корнем. А так как не единым хлебом живет человек, то и выдумывает бедный наш бескультурный поневоле что-нибудь пофантастичнее, да понелепее, да чтоб ни на что не похоже (потому что хоть все целиком у европейского социализма взял, а ведь и тут переделал так, что ни на что не похоже)»17.
Культура как синоним духовности и цивилизация как символ бытовой благоустроенности, неумеренного потребления и разврата неоднократно появляются в записных тетрадях. «Наше Петром Великим отученное от всякого дела общество»18, продолжая осваивать внешние атрибуты цивилизации, оказалось, как пишет Достоевский, «окультурено отрицательно», и остались от этого внешнего окультуривания лишь исковерканный французский да проживание доходов. Цивилизация «перчаток и карет» усвоилась через разврат: «Всякая цивилизация начинается с разврата. Жадность приобретения. Зависть и гордость. Развратом взяла реформа Петра Великого». Теоретическое же обоснование необходимости цивилизации привело в дальнейшем к разврату мысли: «И вот все поколения оказались несостоятельны, и это плоды трудов Петра! Что принесло, чем кончило наше поколение: социальные не свои теории и рабскою боязнию иметь свою мысль („Современник“, „Русское слово“)»19. Эта идея отразилась и в апрельской книжке «Дневника писателя» за 1876 г., где Достоевский особенно подчеркивает, что соприкоснувшиеся с развратом цивилизации, наружно окультуренные люди начинают презирать и ненавидеть свою прежнюю среду, народ и национальную культуру.
Эта цепь рассуждений ставила перед мыслителем и публицистом сложнейший вопрос: петровский период исчерпан, а значит, для раскрепощенного народа настала пора осознания и реализации своего предназначения, освоения тех элементов наследия европейской культуры, которые привнесены в русскую жизнь лучшими представителями национальной элиты, но ведь путь этого освоения пролегает через столкновение с теми же искушениями. Терзаясь сомнением, писатель все-таки отметит: «У меня много надежд, что народ отстоит свой облик и не начнет цивилизацию с разврата. Пусть через этот фазис переходили мы»20.
Итак, первая основополагающая черта Петровской эпохи — знакомство элиты с европейской культурой, обернувшееся у лучших людей действительным окультуриванием, у большинства же ограничившееся внешним лоском цивилизации, — знакомство, купленное закрепощением народа. Вторая ее черта — это возникновение и развитие инструмента, необходимого для такого закрепощения, для превращения народа в «податный материал»21, — создание регулярного государства, базирующегося на бюрократии. Иронически рассуждая о русском государственном быте от лица воображаемого представителя бюрократии, Достоевский говорит: «Вот уже почти двести лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве все ; в сущности, мы-то и есть государство и все — а прочее лишь привесок»22. Писатель говорит о бюрократии как скелете, основополагающем принципе, святая святых петровской России: «Уничтожьте-ка, измените-ка теперь нашу формулу, если только у вас хватит совести посягнуть на такое дело: да ведь это будет изменой всему нашему русскому европеизму и просвещению, — знаете ли вы это? Это будет отрицанием того, что и мы государство, что и мы европейцы, это измена Петру!»23 Эту идею писатель неоднократно фиксирует и в черновых тетрадях, ставя вопрос о чиновниках так: «Что для кого сделано, они для России, или Россия для них?»24
Но обе эти черты петровского периода, как полагает Достоевский, периода уже оконченного, исчерпавшего себя, уходят в прошлое — цепь закрепощения разорвана манифестом 19 февраля, а нарождающиеся местное самоуправление и земства разрушают верховенство бюрократии. Поэтому теперь о петровском периоде нужно рассуждать уже как о завершенном и можно дать ему оценку. Является ли оценка Достоевского однозначно негативной? Нет, она гораздо сложнее: «О, конечно, кто теперь из всех русских, и особенно когда все прошло (потому что период этот и впрямь прошел), кто из всех даже русских будет спорить против дела Петрова, против прорубленного окошка, восставать на него и мечтать о древнем Московском цар-стве?»25 Говоря об оценке деятельности Петра, Достоевский подчеркивает, что оспаривать общий вектор ее неправильно и невозможно. Да и вектор этот задан не Петром, а всей прежней историей и будущим призванием России: «…Через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание ее»26. В этом отношении Достоевский примыкает к числу тех историков и публицистов, которые не расценивали деяния Петра как слом траектории государственного развития России27, а только как ускоренное, форсированное движение к тем же целям, которые были обозначены всем прежним развитием русского государства: «Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское прибрежье, лет сто тридцать раньше Петра. Если б завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре»28.
Впрочем, Достоевский скорее критически смотрит на тот форсированный характер, который был придан Петром закономерному движению России: «Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли»29.
В знаменитой «Пушкинской речи» Достоевский подчеркивает, что это движение России к соприкосновению с европейской мыслью было движением к обретению ею самой себя: «В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно, уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно»30.
Реформа Петра, хоть и стоила закрепощения и разобщения, хоть и породила бюрократию, была необходимым условием усиления России, сознания ею своего предназначения и залогом реализации его. Достоевский смотрит на Петровскую реформу через призму своей идеи о мессианском призвании русского народа: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите»31. Говоря о Допетровской Руси, которая «была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически»32, Достоевский отмечает, что в своем стремлении к замкнутости, в своем бережливом и ревнивом отношении к унаследованной ею от Византии святыне православия, тщательно хранимого ею от тлетворных веяний Запада, Русь уже готовилась «быть неправа». Быть неправа в своем стремлении сохранить православие в самой себе и для самой себя, а не нести его остальному миру, исполняя свою великую миссию. Петр же не позволил ей остаться неправой, он втолкнул Русь в Европу, и «с Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное, — и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра»33.
Только став полноправной частью европейской культуры, русские получили возможность осознать и исполнить свое всечеловеческое значение: «Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти

Пасечник.
Худ. И. Н. Крамской, 1872 г.
с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объ- явившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению… О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое…, наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, Вы най-
дете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило»34.
Итак, Петровская реформа, как бы дорого ни стоила, была залогом осознания и исполнения мессианского призвания русского народа, поэтому деятельность Петра — это подвиг, а о его явлении неоднократно говорится как о «пришествии». Однако Достоевскому не свойственна и идеализация Петра и его эпохи. Петровский период осмысляется не только в публицистике, вспомним множество как карикатурных, так и поистине трагических персонажей его романов, ставших невольными жертвами этого отрыва от корней, разрыва с народной правдой и поверхностного, искаженного усвоения европейских идей (С. Т. и П. С. Верховенские, Н. В. Ставрогин, А. П. Версилов и др.). Как бы ни было хорошо и полезно «все то, что мы в окошко увидели», но все-таки «в нем было и столько дурного и вредного, что чутье русское не переста-
вало этим возмущаться, не переставало протестовать… и протестовало… в самом деле, может быть, от того, что хранило в себе нечто высшее и лучшее, чем то, что видело в окошке… (Ну, разумеется, не против всего протестовало: мы получили множество прекрасных вещей и неблагодарными быть не желаем)»35.
Итак, сущность петровского периода русской истории в том, что нация раскололась на две неравные части, каждая из которых выполняла свою часть миссии — одни обретали беспрецедентное расширение взгляда и вкушали плоды культуры всех наций, другие хранили святыню православия и народной правды. Этот период был необходим и закономерен, но теперь он пройден, и будущее России зависит от того, сколько «вкусивших от культуры» сможет «воротиться опять к народу и к идеалам народным, не теряя своей культуры».
Необходимость этого единения, рождения сложного культурного синтеза являлась идейной сердцевиной почвенничества как философского и политического учения, и была для Достоевского основой для исторической, политической и нравственной оценки образа Петра Великого.
Список литературы Образ Петра Великого в публицистике Ф. М. Достоевского
- Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972.
- Громова Н. А. Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М.: Аграф, 2002.
- Джанибеков Б. Т. Социальность в идеях почвенничества // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации. 2020. № 1 (4). С. 14-19.
- Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т 1. М: Художественная литература, 1990.
- Достоевский и журнализм: Сб. ст. по материалам XV Симпозиума Международного общества Достоевского / Под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя: В 2 т. М.: Книжный клуб 36.6, 2011.
- Достоевский. Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб.: Наука, 1996. Т. 15.
- Кругликова О. С. Образ Петра I на страницах журнала "Современник" в эпоху великих реформ // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2020. № 4. С. 111-115.
- Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. / [Статьи Л. М. Розенблюма и Г. М. Фридлендера]. М.: Наука, 1971. (Литературное наследство / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького / Ред. В. Р. Щербина, т. 83).
- Достоевский Ф. М. "Человек есть тайна…" / Вступ. ст. и сост. Б. Н. Тарасова. М.: Известия, 2003.