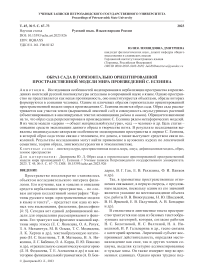Образ сада в горизонтально ориентированной пространственной модели мира произведений С. Есенина
Автор: Дмитриева Ю.Л.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 5 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследования особенностей моделирования и вербализации пространства в произведениях носителей русской лингвокультуры актуальны в современной науке о языке. Однако пространство не представляется как некая протяженность, оно конституируется объектами, образы которых формируются в сознании человека. Одним из ключевых образов горизонтально ориентированной пространственной модели мира в произведениях С. Есенина является образ сада. Образ сада рассматривается как участок земли (выраженный лексемой сад) и совокупность окультуренных растений (объективированных в анализируемых текстах номинациями рябина и вишни). Обращается внимание на то, что образ сада репрезентирован в произведениях С. Есенина рядом метафорических моделей. В их числе модели «дерево - объект материальной культуры», «сад - человек» и др. Цель статьи -описание средств экспликации данного образа в творчестве поэта. В результате исследования выявлены индивидуально-авторские особенности моделирования пространства в лирике С. Есенина, в которой образ сада тесно связан с человеком, его домом, а также выступает средством связи поколений. Результаты исследования могут найти применение в вузовских курсах по лексической семантике, теории образа, лингвокультурологии и этнолингвистике.
Лингвокультура, пространственная модель мира, локус, дефиниционная модель, образ, земное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147241116
IDR: 147241116 | УДК: 811.161.1'06:81'42 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.926
Текст научной статьи Образ сада в горизонтально ориентированной пространственной модели мира произведений С. Есенина
Пространство неоднократно становилось объектом исследовательского интереса филологов. Его изучение, как и «анализ и описание средств вербализации пространства, – по словам авторов коллективной монографии “Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте”, – предстает как одна из вечных тем языкознания, филологии, философии» [4: 5]. Сегодня нет единой дефиниционной модели для определения рассматриваемого феномена. Его трактуют как фрагмент языковой картины мира этноса (Е. С. Яковлева, О. А. Рачук, З. А. Мельничук, М. В. Осыка, Т. С. Медведева, Л. К. Хертек и др.), текстообразующую категорию (Н. С. Болотнова, Т. В. Матвеева, Н. А. Николина, Л. Г. Бабенко, О. А. Корда, П. Ю. Повалко и др.), отражательную семантическую категорию (Л. Н. Федосеева, Т. Е. Алексеева и др.) и как категорию функциональной грамматики (А. В. Бон
дарко, В. Г. Гак, Е. В. Рахилина, Ф. И. Панков и др.).
Так, в грамматике пространственные отношения связывают, в первую очередь, с предложным падежом, поскольку одним из его значений является указание на местонахождение объекта (см. работы В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, В. Н. Ярцевой, Е. В. Падучевой, А. В. Бондарко и др.).
В стилистике и лингвистике текста пространство трактуется как одна из базовых текстообразующих категорий, которая, согласно работам Н. С. Болотновой, Н. С. Валгиной, Н. А. Николиной, И. Р. Гальперина и др., тесно связана с категорией времени. Лирический субъект воспринимает действительность, определяя местонахождение как свое, так и других членов социума, выделяя культурно ассимилированные и чуждые зоны. Он также измеряет мир во временных единицах. Однако время труднее под- дается непосредственному восприятию. Для его осознания, согласно концепции А. В. Бондарко, человеку нужно либо пережить, либо отметить в объекте, за которым он имеет возможность наблюдать, ряд состояний, «что, разумеется, сложнее» [6: 7]. Соответственно, ход времени часто заметен по тем изменениям, которые происходят с определенным местом (локусом). Так, в примере Я вернусь, когда раскинет ветви / По-весеннему наш белый сад1 пространство объективировано лексемой сад. А время эксплицировано именем прилагательным белый, указывающим на окраску цветков растений, произрастающих на данном участке, и наречием по-весеннему, выражающим представление о конкретном времени года. В другом примере Облетает под ржанье бурь / Черепов златохвойный сад2 ход времени выражен с помощью метафорической модели «живое существо → явление природы». Область источника данной модели эксплицирована предложно-падежной формой под ржанье, указывающей на звуки, которые издает конь. Область цели объективирована лексемой буря, которая также вербализует представление о времени года – осень. Кроме того, на этот временной период указывает и композит златохвойный, образованный в соответствии с метафорической моделью «дерево → объект материальной культуры». Отметим, что данная языковая единица характеризует также и локус сада, а именно: выражает представление о деревьях (компонент хвойный), которые произрастают в этом месте.
Тесная связь текстовых категорий времени и пространства подчеркивается и в работах Н. А. Николиной и Л. Н. Федосеевой. Кроме того, пространство понимается как отражательная категория: автор при моделировании мира художественного произведения переносит в него хорошо известные параметры описания пространства физического мира. Так, в поэзии С. Есенина представлена традиционная для русской лингвокуль-туры пространственная модель мира, объективированная лексемами дом, изба, хата, мельница, сад, двор, огород, дорога, околица, опушка, межа, деревня, село, поле, равнина, луг, поляна, пашня, нива, степь, церковь (церквушка), часовня, колокольня, монастырь, гора, лес, роща, чаща, пуща, сосняк, бор, дубрава (дуброва), город и т. д. (см. подробнее [2], [3]).
Данная модель мира объективирована и в произведении «Край ты мой заброшенный…», которое построено на описании нескольких ключевых образов пространственной модели мира. Автор изображает сначала образный ландшафт родного края с постепенным сужением культурно ассимилированного пространства. Ср.:
Край ты мой заброшенный, / Край ты мой, пустырь . / Сенокос некошеный, / Лес да монастырь . / Избы за-боченились… / Крыши их запенились / В заревую гать. / Под соломой-ризою / Выструги стропил 3.
Кроме того, в конце произведения пространство воспринимается лирическим субъектом фрагментарно: это некие яркие, запоминающиеся объекты, которые ассоциируются со «своим», родным. Так, в стихотворении образ дома объективирован не только вербальным знаком изба , но и номинациями элементов морфологии строения (лексемы крыша, окно ). Отметим, что использование приложения риза , то есть названия элемента церковного одеяния, квалифицируем в качестве указания на особую роль образа дома, который соотносится с зоной пересечения земного и сакрального пространства. Например, в фольклорной пространственной модели мира крыша дома считалась границей земного и сакрального пространства ( Крыши их запенились / В заревую гать ), поскольку она отграничивала «свое», родное, связанное с семьей и привычными реалиями, от «чужого», небесного. Кроме того, согласно представлениям славян, именно на небе располагались как рай, так и ад.
Гипоним черемуха в произведении «Край ты мой заброшенный…» объективирует представления как о дереве, произрастающем рядом с домом, так и о времени года. Ср.: Как метель , черемуха / Машет рукавом 4. С. Н. Пяткин, рассматривая феномен А. С. Пушкина в художественном сознании С. Есенина, указывает на ключевую роль образа метели в произведениях обоих поэтов. В творчестве С. Есенина образ метели, согласно концепции исследователя, это и природная зимняя стихия, которая часто характеризуется как губительная для лирического героя, и маркер весны. Данный образ также связан «с образом родного дома и Родины в целом» [5: 157].
Кроме того, в тексте «Край ты мой заброшенный…» противопоставляется внутреннее (вер-бализированное словами изба, крыша, стропила и предложно-падежной конструкцией под соломой-ризою ) и внешнее (выраженное языковыми знаками край, пустырь, сенокос, лес, монастырь ) пространство.
В лингвокультурологических исследованиях пространство рассматривается как ряд культурно ассимилированных зон и противопоставленных им локаций (см. труды Н. Н. Болдырева, В. В. Красных, И. В. Захаренко и др.).
Аксиоматичен тезис об измеримости пространства, точкой отсчета развертывания которого является воспринимающий субъект. Например, в работе Е. С. Яковлевой пространство классифицируется в соответствии с несколькими критериями, одним из которых является «наличие / отсутствие непосредственного восприятия (наблюдения)». В проанализированных исследователем текстах рассматриваемый феномен выражается преимущественно наречиями с пространственным значением. Так, адъективы вблизи, вдали, вдалеке, поблизости, близко, далеко, рядом и др. объективируют представление говорящего о расположении того или иного объекта или о дистанции между ними.
Анализируя только наречия, Е. С. Яковлева подчеркивает особенность восприятия пространства человеком:
«Картина пространства в русском языковом сознании не сводима ни к какому физико-геометрическому прообразу: пространство не является простым вместилищем объектов, а скорее наоборот ‒ конституируется ими и в этом смысле оно вторично по отношению к объектам» [8: 20‒21].
Ученый апеллирует к трудам В. Н. Топорова, в которых изложено описание пространства в архаической модели мира: человек постепенно «собирает» пространство, обживает и осваивает его. Аналогичный тезис приведен в коллективной монографии «Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте», авторы которой отмечают «переживаемость» человеком пространства, что обусловливает его репрезентацию в сознании индивидуума как совокупность визуальных, тактильных образов [4]. Именно необходимостью системного описания средств вербализации данных образов в текстах С. Есенина определяется актуальность данной работы.
Кроме того, в современной лингвистике актуальным остается и изучение языка художественных произведений определенного автора. Исследователи не только пишут научные труды, но и создают словари, энциклопедии, электронные издания. Так, в работах Е. В. Михайловой, А. И. Лазовской, В. Б. Тюрина, Е. Н. Суворкиной, С. А. Кривошапко и др., выполненных в рамках современного есениноведения, становление научного фундамента которого пришлось на 50–80-е годы ХХ века, исследуется система концептов в текстах С. Есенина (в их числе и концепт пространство). Е. С. Хило, М. Ю. Меньшикова, И. Макарем, Т. И. Колесник, М. Сордини и др. описывают особенности перевода стихотворений и поэм «последнего поэта деревни». Кро- ме того, рассматриваются интертекстуальные и интермедиальные связи творчества С. Есенина с текстами авторов из Китая, Великобритании, Германии, США, с произведениями русских литераторов различных периодов (см. работы О. Е. Вороновой, С. Н. Пяткина, И. Н. Коржовой, Д. О. Котомцева, А. А. Корниловой, А. А. Сорокина и др.). Г. И. Шипулиной подготовлена серия идеографических «Словарей языка Сергея Есенина», в которых зафиксированы вербальные знаки, используемые поэтом в своих произведениях, к каждой семеме даны примеры из соответствующих художественных текстов. В статьях А. В. Самодуровой описана специфика функционирования образа города в идиостиле С. Есенина. В работах современных филологов детально проанализированы образы дома и/или избы (В. А. Доманский, Р. П. Дронсейка, Ю. Л. Дмитриева и др.), поля (В. А. Доманский, Ван Синьтун и др.), дерева (Ю. Л. Дмитриева, В. А. Доманский и др.), неба и небесного града (М. М. Медведева, Н. В. Михаленко, Е. П. Гребен-ская и др.), а также образы Востока, топонимика произведений поэта, особенности репрезентации художественных времени и пространства в цикле «Персидские мотивы» (Л. Ф. Алексеева, Л. В. Вахрушева, Г. И. Шипулина, Е. А. Самоделова и др.).
Лингвистами и литературоведами запущен проект создания «Есенинской энциклопедии», статьи которой появляются на страницах научно-методического журнала «Современное есениноведение». В марте 2021 года к 125-летию со дня рождения поэта вышел первый выпуск энциклопедии «Памятные места и литературная география», включающий 357 статей о 442 топонимах. Н. И. Шубникова-Гусева отмечает во введении «О Есенинской энциклопедии», что в издание включены сведения как о топонимах, так и поэтонимах (термин В. М. Калинкина). Соответственно, в данном выпуске зафиксировано представление о дифференциации в пространственной модели мира произведений С. Есенина земного и сакрального пространств.
Актуальность данного исследования состоит также в необходимости системного описания особенностей языка произведений С. Есенина, фиксирующих представления поэта как носителя русской лингвокультуры о пространстве, его организации и ключевых образах мест. Цель исследования – анализ языковых единиц, эксплицирующих образ сада как одного из ключевых в пространственной модели мира произведений С. Есенина.
ДЕФИНИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТЕРМИНА ОБРАЗ
В современной лингвистике образ определяется по нескольким дефиниционным моделям в зависимости от направления изучения. В их числе «образ ‒ компонент структуры концепта / линг-вокультуремы», «образ – единица лингвокульту-ры», «образ – элемент семантической структуры слова». Н. Ф. Алефиренко и Ю. Н. Караулов понимают под образом единицу сознания, которая принимает участие в процессах категоризации и концептуализации онтологического мира. В работах Е. Г. Беляевской образ трактуется и как один из этапов познания человеком действительности, и как ментальный конструкт, формируемый на базе исходного объекта восприятия и служащий его репрезентантом.
Модель «образ ‒ компонент структуры концепта / лингвокультуремы» репрезентирована в трудах С. Г. Воркачева, В. В. Воробьева, В. И. Карасика, В. В. Колесова, И. А. Стернина, З. Д. Поповой. В них образ рассматривается как первичный источник информации о реалиях онтологического мира, с которыми взаимодействует человек.
В исследованиях Н. А. Илюхиной, М. Я. Розенфельд, Е. А. Юриной образ определяется как компонент семантической структуры слова. Соответственно, он фиксируется как в словарной дефиниции, так и в примерах использования данного вербального знака. Образ лингвисты рассматривают как «конкретно-чувственное представление о называемом предмете посредством ассоциативного сближения с другим предметом» [7: 29].
Мы под образом понимаем одну из базовых единиц лингвокультуры, содержащую верба-лизированное отображение предметного мира, фиксирующее фактуру, объем, пространственное положение познаваемого предмета. Кроме того, образ способен выполнять функции эталона и вносить в структуру слова культуроносную информацию, а также обладает способностью приобщать человека к единой для этноса картине мира.
СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗА
САДА ГОРИЗОНТАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МИРА ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. ЕСЕНИНА
В языковом опыте носителей русской линг-вокультуры вербальный знак сад используется для номинирования «участка земли для выращивания садовых растений (цветов, фруктовых деревьев и кустарников), произрастающих на та- ком участке»5. В данной дефиниции репрезентированы следующие когнитивные признаки образа сада: «участок пространства», «совокупность растений, занимающих отведенное человеком место». Кроме того, в рассматриваемом определении зафиксировано отнесение образа сада к земному пространству (или включение его в горизонтально ориентированную пространственную модель мира). Так, в примере Я хотел, чтоб сердце глуше / Вспоминало сад и лето6 образ сада, выраженный соответствующей лексемой, тесно связан с конкретным временным промежутком. Это воспоминание, картинка, которая возникает в сознании лирического субъекта. Однако нельзя однозначно отнести образ сада в данном тексте к «своему». Скорее это конкретное место земного (горизонтально ориентированного в восприятии человека) пространства, с которым связаны определенные события, пережитые чувства и эмоции.
Во фрагменте текста А в саду разбрехались собаки, / Словно чуя воров на гумне 7 образ сада выражен словом сад , которое называет соответствующее место, наблюдаемое лирическим субъектом в горизонтальной плоскости. Отметим, что в стихотворении описывается процесс хождения на богомолье. По свидетельству О. Е. Вороновой, данное произведение автобиографично.
«На наш взгляд, можно с полным основанием утверждать, что именно Иоанно-Богословский монастырь с его характерными реалиями поэтически воссоздан в стихотворении Есенина “По дороге идут богомолки”» (1914)» [1: 55].
Автор не раз бывал там с бабушкой и воссоздал особенности зданий обители и ее подворья, в которое входил и сад как культурно ассимилированное человеком пространство, расположенное в непосредственной близости от жилья монахов.
На традиционную связь образов дома и сада указывает не только моделирование горизонтально ориентированной пространственной модели мира автором, но и то, что данный образ относится к «своему», безопасному пространству, в которое легко проникнуть через границу. Так, в примере Все равно калитка есть в саду ... 8 акцентировано внимание на возможности проникновения в данный локус с помощью материального артефакта, который служит границей между данным локусом и иным, удаленным от человека. В других строках также репрезентировано данное представление, однако образ сада характеризуется через соотнесение с человеком (метафорическая модель «человек → сад»).
Ср.: За калиткою смолкшего сада / Прозвенит и замрет бубенец 9. Так, причастие смолкший , то есть прекративший процессы говорения, характерные для индивидуума, квалифицируем как область источника, а лексему сад как репрезентант области цели. Кроме того, использование данной модели также указывает на отнесение образа сада к «своему», культурно ассимилированному и, соответственно, безопасному для человека пространству.
В строках В саду горит костер рябины красной, / Но никого не может он согреть 10 образ сада вербализирован как лексемой сад, так и номинацией рябина , которая называет дерево, произрастающее на данном участке. В примере анализируемый образ репрезентирует земное пространство, воспринимаемое лирическим субъектом в горизонтальной плоскости. В произведении трансформации, происходящие с садом и деревьями, отождествляются с состоянием того, кто взаимодействует с онтологическим миром. Ср.: Не обгорят рябиновые кисти, / От желтизны не пропадет трава. / Как дерево роняет тихо листья, / Так я роняю грустные слова 11.
В восприятии лирического субъекта описываемый образ статичен, чтобы подчеркнуть его вневременность в тексте используется отрицание ( не обгорят, не пропадет ). Кроме того, лирический субъект сравнивает себя с одним из деревьев сада, на что указывает параллелизм построения главной и придаточной частей предложения: Как дерево роняет тихо листья, / Так я роняю грустные слова : как N1 + Vf + N4, так N1 + Vf + N4.
Отметим, что автором использован полисе-мант ронять , который в придаточной части выражает представление об опадении в определенный временной промежуток, как правило, осенью, лиственного покрова с деревьев. А в главной предикативной части данный глагол выражает представление о процессах говорения. Ср.: «Ронять – лишаться чего-л., терять (листья, перья и т. п.); медленно, небрежно, с паузами произносить»12.
В поэзии С. Есенина образ сада репрезентирован также метафорической моделью «сад → человек». Так, в примере Был я весь как запущенный сад13 область цели рассматриваемой модели выражена местоимением я, называющим лирического субъекта, а область источника – вербальным знаком сад. Кроме того, образ сада характеризуется в тексте лексемой запущенный, то есть «неухоженный, заброшенный; оставленный без присмотра»14, которая одновременно характеризует как место, так и человека. Соответственно, описываемый образ отнесен к пограничной зоне: это еще «свое» пространство, но отсутствие человека обусловливает его отчуждение, то есть отнесение к «чужому».
Напротив, образ сада как «своего» репрезентирован в тексте «Письма к сестре». В произведении описываемый образ вербализирован лексемой сад , а также названием вида деревьев, произрастающих в нем, – вишни . Кроме того, образ сада характеризуется при использовании лексемы цветущий , указывающей как на оценку сада (то есть «успешно развивающийся, процве-тающий»15), так и на то, что в нем произрастают плодовые деревья, которые весной цветут. Образ сада является также символом принадлежности к роду: это та константа, которая объединяет несколько поколений в представлении лирического субъекта. Ср.: Но сад наш !.. / Сад ... / Ведь и по нем весной / Пройдут твои / Заласканные дети . // О! / Пусть они / Помянут невпопад, / Что жили... // Чудаки на свете 16.
Наконец, в строках Как кладбище, усеян сад / В берез изглоданные кости 17 образ сада сравнивается с кладбищем – «местом, предназначенным для погребения умерших»18. В данном примере актуализировано восприятие сада как сакрального пространства, которое находится в горизонтальной плоскости восприятия человеком. Оно доступно для непосредственного взаимодействия, однако с данным локусом в русской лингвокультуре связаны представления о пребывании душ умерших и демонов. В этнолингвистическим словаре «Славянские древности» отмечено, что кладбище рассматривается как «святое» место, где необходимо соблюдать определенный ритуальный этикет. Кроме того, по данным указанного лексикографического издания, образ сада в русской лингвокультуре также ассоциируется с представлениями о смерти, которые актуализированы в примере Вот так же отцветем и мы / И отшумим, как гости сада ... 19 Автор использует лексему гость , которая в русской лингвокультуре указывает на отнесенность к «чужому». Ср.: «Принадлежностью к сфере ‘чужого’ определяется в народной традиции особый статус гостя, нищего (странника), священника, колдуна, что проявляется в ‘ритуализованном’ отношении к ним»20. Представления о смерти в анализируемых поэтических строках выражены предикатами отцвести и отшуметь , в которых приставка от- выражает значение «завершения и прекращения названного действия»21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образ сада в произведениях С. Есенина является одним из образов горизонтально ориентированной модели мира. Это культурно ассимилированный человеком участок земли или совокупность растений, произрастающих на таком участке. Однако в творчестве русского поэта образ сада актуализирует также представление о родном доме и семье, символизирует преемственность поколений. В проанализированных произведениях С. Есенина образ сада выражен вербальным знаком сад, а также номинациями произрастающих в нем растений рябины, вишни. В стихотворениях поэта рассматриваемый об- раз характеризуется местоимением наш, именами прилагательными белый, златохвойный и причастиями запущенный, цветущий, смолкший. Кроме того, рассматриваемый образ в лирике С. Есенина репрезентирует традиционные для русской лингвокультуры представления о смерти и ассоциируется с кладбищем, то есть с сакральным пространством. Однако данное описание не является исчерпывающим. Перспективу дальнейших исследований составляет анализ средств вербализации образа сада в произведениях С. Есенина как одного из образов сакрального (или вертикально ориентированного) пространства.
Список литературы Образ сада в горизонтально ориентированной пространственной модели мира произведений С. Есенина
- Воронова О. Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Рязань: Узорочье, 2002. 520 с.
- Дмитриева Ю. Л. Параметры пространственной модели мира (на материале поэзии С. Есенина) // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. 2021. № 1. С. 33-38.
- Дмитриева Ю. Л. Пространственная модель мира в произведениях С. А. Есенина // Современное есениноведение: Научно-методический журнал. 2020. № 4 (55). С. 63-70.
- Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте / Р. Н. Порядина, Л. Г. Гынгазова, Ю. А. Эмер и др.; Отв. ред. проф. З. И. Резанова. Томск: UFO-Plus, 2007. 384 с.
- Пяткин С. Н. Пушкин в художественном сознании Есенина: Монография. Саров: Интерконтакт, 2017. 405 с.
- Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, В. Г. Гак и др.; Редкол.: А. В. Бондарко (отв. ред.) и др. СПб.: Наука: С.-Петерб. изд. фирма, 1996. 230 с.
- Юрина Е. А. Образный строй языка. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. 156 с.
- Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. 344 с.