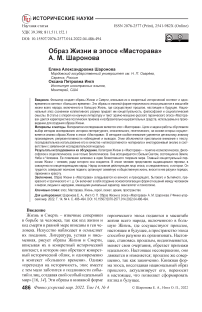Образ жизни в эпосе "Масторава" А. М. Шаронова
Автор: Шаронова Е.А., Ингл О.П.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Фольклор создает образы Жизни и Смерти, вписывая их в конкретный исторический контекст и одновременно в контекст «большого времени». Эти образы в книжной форме героического эпоса решаются в масштабе жизни всего народа, включенного в большую Жизнь, где сосуществуют прошлое, настоящее и будущее. Национальный эпос сознанием коллективного разума придает им концептуальность, философский и социологический смыслы. В статье с опорой на научную литературу и текст эрзяно-мокшано-русского героического эпоса «Масторава» дается характеристика поэтических приемов и изобразительно-выразительных средств, используемых в произведении для создания образа Жизни. Материалы и методы. Материалом исследования является эпос «Масторава». Цели и задачи работы обусловили выбор методов исследования: историко-литературного, описательного, генетического, на основе которых осуществляется анализ образа Жизни в эпосе «Масторава». В методике особое внимание уделяется детальному анализу произведения, репрезентативности наблюдений и выводов. Этим объясняются пристальное внимание к тексту, последовательное использование его в качестве «иллюстративного» материала и многоуровневый анализ в соответствии с заявленной исследовательской моделью. Результаты исследования и их обсуждение. Категория Жизни в «Мастораве» - понятие космологическое, философское и социологическое, а не только биологическое. Она ассоциируется с Белым Светом, состоящим из Земли, Неба и Человека. Ее появление заложено в идее божественного творения мира. Главный концептуальный персонаж Жизни - человек, ради которого она создается. В эпосе человек представлен выдающимися героями, в совокупности олицетворяющими народ. Народ основное действующее лицо эпоса, а следовательно, и истории. Он трудится, совершает воинские подвиги, организует семейную и общественную жизнь, вносит в нее разум и порядок, гармонию и красоту. Заключение. Образ Жизни в «Мастораве» складывается из вечного и преходящего, бытового и бытийного, прекрасного и трагического и т. д. Он включает в себя создание основополагающих форм отношений между человеком и миром, людьми и народами, имеющими уникальный характер, менталитет и психологию.
Эпос, масторава, жизнь, герой, сюжет, время, пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147238996
IDR: 147238996 | УДК: 39.398, | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.486-494
Текст научной статьи Образ жизни в эпосе "Масторава" А. М. Шаронова
Жизнь и Смерть ‒ извечные соперники в борьбе за человека, так как код жизни и код смерти в равной мере вписаны в ген человека. Искусство наблюдает и осмысляет их поединок. Литература, устная и письменная, рисует образы Жизни и Смерти, вписывая их в конкретный исторический контекст, в котором они обретают конкретный исторический облик, и одновременно в контекст «большого времени». Однако «претендуя на историчность, эпос вместе с тем мало заботится о подлинности событий и лиц, создавая свой особый идеальный мир» [16, 14]. Эти образы в книжной форме героического эпоса подаются в масштабе жизни всего народа, включенного в большую Жизнь, где сосуществуют прошлое, настоящее и будущее, а пространство эпоса способно разумно их организовать. Настоящее, становясь прошлым, видоизменяется, меняет свои очертания, обретает признаки идеального. Настоящее несовершенно, оно движется и изменяется; прошлое же совершенно, так как законченно. Книжная форма эпоса, воссоздавая национальный образ прошлого, актуализирует его, переносит в настоящее, что позволяет сформировать взгляд в будущее.
В эрзяно-мокшано-русском героическом эпосе «Масторава» Жизнь изображается как бесконечный творческий процесс, как непрерывное движение и развитие. Смерть отступает перед силой Жизни. Эпос осознает ее торжество и наполняется оптимизмом и героическим пафосом; судьба народа осмысляется как феномен, не знающий апокалиптических мотивов.
Научная новизна статьи обусловливается впервые произведенным анализом образа Жизни в эпосе «Масторава». Объектом исследования является эпос «Масторава», предметом выступает представленный в нем образ Жизни. Цель исследования – рассмотрение уникальности образа Жизни как бесконечного творческого процесса, жизни как творчества. В статье с опорой на научную литературу и текст эпоса «Масто-рава» дается характеристика поэтических приемов и изобразительно-выразительных средств, используемых в произведении для создания образа Жизни.
Обзор литературы
Научная проблематика «Масторавы» обширна ввиду уникальности ее художественной природы, сформировавшейся на индивидуально-авторской и фольклорной основах. Интерес к ней обусловлен и тем, что она входит в число первых образцов книжной формы эпоса финно-угорских народов, созданных во второй половине XX в. Образ Жизни – один из центральных эпических образов ‒ не только организует образную систему «Масторавы», но и наследуется современной финно-угорской поэзией России, что активно осмысляется как в индивидуальных, так и в коллективных исследованиях А. А. Арзамазова [1; 2], А. А. Гагаева [3; 4], С. П. Гудковой [6‒8; 22], О. П. Ингл [10‒12; 18], Р. А. Кудрявцевой [13; 14; 21], В. П. Миничкиной, Е. С. Руськиной [15], Е. А. Шароновой [16‒20; 22–24], А. М. Шаронова [12; 19; 20; 22; 23] и др.
О. П. Ингл в статье «Проблема кризиса патриархального правления в эпосе “Масторава”» отмечает парадоксальность природы «Масторавы» (а вместе с ней и других книжных эпосов ХХ в.1). Будучи основанной на устной традиции, позволяющей сопоставлять ее с традиционными устными эпосами, «Масторава» содержит и литературно обработанные фольклорные тексты, сведенные воедино со сказаниями, написанными А. М. Шароновым. Этот прием усложняет форму произведения, делает его многоаспектным [11].
А. А. Арзамазов в работах, посвященных непосредственно «Мастораве» [2] и в целом современному состоянию национальных литератур России [1], рассматривает «Мастораву» и ее автора как уникальные феномены, задающие координаты движения национальной культуры, определяющие духовные приоритеты этноса. Исследователь считает, что без «больших» книг и «больших» писателей народу трудно воспринимать себя состоявшимся.
Р. А. Кудрявцева, М. Н. Кузнецова предлагают комплексный анализ «Масторавы», сосредоточиваясь на ее структуре, тематике, проблематике, мотивике, представляя произведение как национальный культурный мегапроект [14].
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев, О. В. Бочкарева выдвигают новый научный сюжет, создавая феномен «философия “Масторавы”». Они расширяют границы восприятия эпоса, ставя его в один ряд с такими книгами, как Библия, «Илиада», «Калевала» [3].
С. П. Гудкова исследует характер использования мифологического и фольклорного материала в творчестве А. М. Шаронова [7].
-
В. П. Миничкина и Е. С. Руськина обращаются к проблеме «Масторавы» в связи с подходом к эпосу как фактору формирования этнической идентичности личности, видя в нем мощное средство воспитания и сохранения в молодежи национального генокода и формирования национально-ментальных и общечеловеческих ценностей [15].
Материалы и методы
Материалом исследования является эпос «Масторава». Цели и задачи работы объясняют выбор методов исследования: историко-литературного, описательного, генетического, на основе которых осуществляется анализ образа Жизни в эпосе «Масторава».
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
В методике особое внимание уделяется детальному анализу произведения, репрезентативности наблюдений и выводов, последовательному использованию текста в качестве «иллюстративного» материала, многоуровневому анализу его в соответствии с заявленной исследовательской моделью.
Результаты исследования и их обсуждение
Книжная форма эпоса – научно-художественное явление, актуализированное в эпоху утвердившейся письменности и сложившейся литературы. Она создается поэтом на основе переплетения фольклорного и литературного начал для концентрированного выражения национальной идеи, которая содержится и в фольклоре, и в литературе, но в «наивном» виде2. Автор эпоса организует материал и создает образ народа с его представлениями о мире, Жизни и Смерти, Любви и Ненависти и т. д., проявляющимися в эпическом макросюжете посредством входящих в него микросюжетов.
В 1909 г. в журнале «Живая старина» была опубликована «Мордовская история» Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, в 1935 г. издана поэма Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь». С этого времени мордовский эпос стал постепенно готовиться к окончательному рождению. В 1950-е гг. в СССР начался процесс исследования, описания и публикации национальных эпосов. Была разработана специальная программа по изучению и изданию эпических памятников. Литераторы Мордовии подключились к реализации данной инициативы, так как необходимая почва для этого имелась. К рубежу 1950–1960-х гг. идея создания национального эпоса не просто витала в воздухе – она была осмыслена и энергично стремилась к воплощению. В 1960 г. В. К. Радаев опубликовал поэму «Сияжар», которая до 1994 г. – года выхода в свет «Масторавы» А. М. Шаронова ‒ воспринималась как эрзянский и мокшанский эпос. Но с публикацией «Ма-сторавы» стало очевидно, что именно она в полной мере отражает содержание понятия национального героического эпоса. Извест- ный финно-угровед П. Домокош оценил «Мастораву» как «третий полноценный финно-угорский эпос», назвав ее автора «мордовским Лённротом» [9, 11].
Управляемый разумом времени и истории эпос ждал того мгновения, когда Время, Пространство, Творец идеально сойдутся, чтобы осуществить акт творения Книги. По мнению Г. Д. Гачева, «…эпопея – это когда народ и государство справляют свой день рождения на краю смерти, небытия. Это – творение, перворождение мира, всех вещей и отношений: “Да будет свет!” – и поэтому в эпопее они облиты ослепительным блеском, умыты, как природа после грозы. Вот почему так лестно каждому государству (обществу) иметь свою национальноисторическую эпопею, и такие усилия оно прилагает всегда, чтобы в его условиях она была создана… Но не всякому обществу дано создать эпопею» [5, 77–78 ].
1960‒1980-е гг. – время расцвета и благополучия СССР, состоявшегося как великое государство. В такие периоды эпосы не появляются, поскольку народ ощущает себя эпически полноценным, состоявшимся, отдыхающим от процесса творения, наслаждающимся результатом титанических усилий по созданию самого себя. В 1990-е гг., носившие бурный революционный характер, возникли условия для публикации «Ма-сторавы» А. М. Шаронова. «Начало эры литературы-письменности, – подчеркивает Г. Д. Гачев, – есть alter ego (второе я ) начала государства. Они видят друг в друге себя и необходимы друг для друга. Создание Книги есть дело жизни государства…» [5, 80 ].
Новая Россия и новая Мордовия действительно нуждались в «Мастораве»: они вдруг оказались на развалинах погубившего себя государства, и от них в очередной раз требовали отречения от своего прошлого. Но народ, как и человек, не может жить, осознавая, что за его спиной и впереди него – темная пропасть, поэтому стремится заменить ее чем-то, на что можно опереться. Назрела потребность в возрождении образа прошлого, великость которого способствовала бы усилению уверенности в дне настоящем. Появившись, этот образ стал активно влиять на обретение народом амбициозного взгляда на самого себя, на утверждение его права быть равным среди равных. Эпос выступил в роли волшебного зеркала, смотрясь в которое, народ осознавал свою историческую значимость, право на большую Жизнь и видел себя в «большом времени».
Основной мотив «Масторавы» – мотив рождения и творения Жизни. Первое сказание «Рождение земли» начинается сюжетом об Инешкипазе – боге богов: «Прежде сам Инешкипаз родился / Как всему основа и причина, / Мира бесконечного начало. / До его великого рожденья / Не было земли, над нею – неба»3. Родившись, Инешкипаз констатирует: «Я Творец. И в том мое значенье» (с. 20). Процессы рождения и творения следуют один за другим, превращаясь с возникновением человека в большую Жизнь. Эпос утверждает: факт существования Земли дополняется фактом жизни Земли после появления на ней человека. Инешкипаз, создав Землю, решает, что без человека мир невозможен, лишен Жизни, и поэтому учреждает ее.
В «Мастораве» центральная фигура мироздания – человек, смысл существования которого состоит в исполнении божественного предназначения. Отношения человека с богами осуществляются посредством молитвы, жертвоприношений, брачных связей, соблюдения предписанных Творцом нравственно-эстетических норм. Он ведет непрерывный диалог с миром, временем и пространством, способен рефлексировать и осознавать себя и окружающую действительность.
В течении Жизни в «Мастораве» участвуют боги и люди. Жизнь, чтобы не закончиться, требует от них энергичных действий. Во втором сказании «Основание обычаев и законов жизни» следует череда свадеб богов и людей, заключающих брачные союзы, рождающих детей, строящих жилища, выращивающих хлеб, постоянно переходящих из одного состояния в другое: девица – в невесту, жену, мать, хозяйку дома, бабушку; парень – в жениха, мужа, отца, хлебопашца, патриарха рода. Вступают в брак бог грома Пурьгинепаз и дочь Инешкипаза Кастарго, бог подземного мира Масторпаз и богиня воды Ведява, парень Мельседей и дочь Инешкипаза Ве-зорго, девушка Азравка и бог света Верепаз и т. д. Образцом идеальной семейной жизни становится союз Дамая и дочери Пурь-гинепаза: «На Земле ‒ на Масторе есть парень, / Поживает молодец на Свете. / Он живет – и годы не считает, / Времени полет не замечает. / Он живет – с женой своей играет, / Сыновей и дочерей рождает, / Доброе растит себе потомство. / Так все говорят об этом парне, / Слух такой о нем идет по миру: / “Славно жить Мазый Дамай умеет. / У Дамая полный дом детишек, / У Дамая полный дом богатства…”» (с. 74–75).
Поскольку «Масторава» как эпос имеет дело исключительно с идеальными проявлениями Жизни и Смерти, Добра и Зла и т. д., изображенный в ней мир разумно организован и целесообразен. В нем не совершаются действия ради действия, всё стремится к определенной цели: женихи ищут красивых невест («Взять жену себе он хочет ‒ / Радость глаз, подругу жизни. / Ищет он жену – красотку, / Ищет он жену такую: / Чтоб ровня была по росту, / Чтоб ровня была по стану, / Чтобы всё в ней было в меру; / Чтобы нравилась невеста / И умом, и белым телом, / И лицом, и ясным взглядом, / И характером предобрым» (с. 75); невесты в мужья выбирают небожителей («Верепаз, и добрый, и пригожий, / Девицу-красавицу увидел. / Взял ее за правую за руку / И к отцу привел, к Инешкипазу. / Инешкипаз полюбил Азравку / И за Верепаза выдал замуж. / ‒ Вот тебе, дитя мое, невеста. / Вот тебе жена, сынок любимый. / Боги, люди – все живите вместе, / Знайте одну долю, одно счастье!» (с. 82)). Красота является важной категорией в «Мастораве». К красоте стремятся потому, что от браков красивых людей и богов рождаются красивые дети, которые, взрослея, украшают Жизнь любовью, трудом, творчеством, бескорыстием, созданием справедливых законов и пр.
Жизнь в ее противоречивой полноте дана в третьей части «Масторавы» «Век Тюштя-на». В сказании «Жизнь Масторавы» Тюш-тян, избранный народом и благословенный
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ богами правитель, отправляется в путешествие по родной земле, чтобы увидеть ее всю как она есть и лицом к лицу встретиться с народом: «Велика земля родная наша / И ее народ: на Раве – Эрзя, / А на Мокше полноводной – Мокша. / Дай-ка я объеду Масто-раву, / Средь народа своего побуду, / Посмотрю на племена и роды. / Как живут эрзяне, я увижу, / Что печалит-радует, узнаю, / Племена мокшанские на юге» (с. 242). Тюштян представляет свою страну огромной, простирающейся от одной большой реки до другой, а народ – многоликим, но единым. В «Мастораве» отражается древнее понимание национальных границ страны как чего-то необъятного (что свойственно многим народам): расстояния от одного края до другого пешком не прошагать, верхом не проскакать, не перелететь и не переплыть. Образ родной земли исключительно прекрасный: на ней стоят высокие горы, текут чистые и глубокие реки, растут густые леса, простираются плодоносные луга и поля.
Величие страны измеряется не только в километрах, которые не подлежат счету, но и в людях, благодаря прекрасным ликам которых вырисовывается портрет народа. Эти люди отличаются умом, красотой, благородством, трудолюбием. В эпосе безусловен принцип этноцентризма, подразумевающий взгляд народа на самого себя как на эталон, как на лучшего из лучших.
Автор «Масторавы», философ и поэт, исповедует убеждение, что человек – это маленький бог, следовательно, он обладает творительными способностями бога, но в более «узком» контексте своих возможностей. В эпосе жизнь одного человека влияет не только на жизнь народа, но и на жизнь всего мира, поэтому сила активности большого бога и маленького бога уравниваются, с той лишь разницей, что первый воздействует извне, а второй – изнутри. Например, крестьянин-богатырь Арсай из Прундаза, который землю пашет без лошади, сам впрягаясь в соху, видит целью жизни служение народу: «– В самом деле молодец ты, Арсай. / Нет твоей сохе на свете равных. / – Сам ты знаешь, каназор эрзянский, / Понимаешь, оцязор мокшанский, / Я о ком душою беспокоюсь, / Для кого желаю доброй жизни. / Об эрзянах всей душой бо- лею, / Для мокшан желаю лучшей жизни. / Накормить их всех хочу я хлебом, / Чтобы голода они не знали» (с. 244).
Другой пример – вышивальщица Мазярго из Пурьгаза: «Вот он едет по селу Пурьгазу. / Ох, село хорошее – он смотрит! / Ох, село пригожее – он видит! / Чем село хорошее уж очень?.. / Тем село пригоже и красиво: / На четыре стороны – проулки, / На три стороны – развилки улиц, / Как серебряные блюдца – пашни, / Словно гребни медные – лес темный, / Словно ленты шелковые – межи, / Как холсты расстеленные – нивы, / Словно овцы в стаде – бродят зайцы… / Потому Пурьгаз село красиво: / В нем живет краса земли Мазярго, / Девушка прекрасная Ма-зярго… / И людей одеть Мазярго хочет / В добрую красивую одежду. / Если старый дед утрется утром / Полотенцем, вышитым Ма-зярго, / Снова станет молодцем пригожим; / Если вытрет им лицо старуха, / Превратится в юную красотку. / Вот она взяла холст белоснежный / И мужскую стала шить рубашку. / Сшила ее, нитками обшила, / Вывела на ней узоры шелком, / Вышила мерцающие звезды, / Пуговицы белые пришила. / Слово молвить не успел инязор, / Как рубашка эта забелела / На его плечах, сияя светом» (с. 246). В этом сюжете также фигурирует образ человека, преобразующего жизнь, наполняющего ее красотой. Игла с шелковой нитью в руках Мазярго уподобляется перу поэта, рождающего землю и небеса, звезды и цветы, города и людей. Образ девушки синонимичен образу бога: чистый холст в ее руках подобен ровной и чистой земле, на которой усилием творящей воли создается мир. Идеальность Мазярго – идеальность героя эпоса, направленная на формирование совершенных законов человеческого бытия и утверждение их в жизни. «Масторава» говорит: человек придуман красивым, чтобы наполнить жизнью, любовью, добротой созданный богом мир.
Образ Жизни, создаваемый в «Мастора-ве», был бы неполным без истории Канявы: «‒ Девушка одна жила когда-то, / Дивная красавица Канява. / Как была она красива, Тюштян, / Так была мила, добра, разумна. / Красоту, что солнце в ясном небе, / За дверями от людей не скроешь. / Все ее увидят и заметят / И расскажут про нее друг другу. /
Красота не только светит людям, / Красота сердца им согревает… / Красота, как дух Инешкипаза, / Всем несет добро, приносит пользу, / Светлые желания рождает…» (с. 255–256). Красота, сердечность и мудрость девушки были по нраву Инешкипазу, и он решил одарить ее 14 дополнительными душами, чтобы светлая ее жизнь никогда не заканчивалась. Красавица же раздала эти души своим детям, оставив себе только одну, но и с одной душой «ярче солнца на весеннем небе / Всем она светила, всех собою / Радуя, лаская, согревая» (с. 256). Ка-нява словно вобрала в себя душу всего народа, именно поэтому, раздавая подаренные души, она всякий раз получала взамен силу и красоту, наполнялась светом.
Немеркнущей красоте Канявы стала завидовать сама Кулома – Смерть. Не в силах справиться с Канявой, она извела ее любимую внучку Равашу. Чтобы спасти девочку, Канява отдала ей свою последнюю душу, а сама в образе прекрасного белого лебедя вознеслась в небеса. Данный сюжет вписан в сюжет жизни народа настолько, что один без другого прочитан быть не может.
Образ Жизни в «Мастораве» складывается из Красоты, Любви, Доброты, Жертвенности, Творчества, Труда. Очевидно, что все это заложено в идее божественного творения, однако участвует в актуализации Жизни лишь благодаря присутствию человека и усилиям, которые он прикладывает, чтобы освоить сотворенную богом Землю. Согласно мифу о сотворении человека, Инешки-паз, сделав его, но не вдохнув в него душу, отправляется спать, оставив «бездушное» творение без присмотра. Как только бог удаляется, к человеку приближается черт и пытается наполнить его своим дыханием. Но сделать это ему не удается, потому что дыхание черта не животворно. Вернувшийся Инешкипаз доводит до логического завершения свой замысел: наполняет чело- века духом, и тот оживает. Прослеживается параллель: бог буквально вдыхает жизнь в человека, а человек посредством активного труда на Земле одухотворяет ее.
Народ, творящий историю с помощью множества выдающихся персонажей, ‒ главный герой эпоса. Будучи сложенным из образов незаурядных людей (Дамай, Ку-дадей, Текшонь, Тюштян, Арсай, Канява и др.), он универсально мыслит, действует, побеждает, хлебопашествует, наполняет мир творительной энергией, олицетворяет Жизнь в высшем ее проявлении.
Заключение
Образ Жизни, созданный в эпосе «Ма-сторава», складывается из вечного и преходящего, идеального и вещного, бытового и бытийного. Жизнь в эпосе создает такие формы отношений между людьми и народами, между Человеком и миром, которые являются основополагающими, определяющими движение истории. В «Мастора-ве» герои мыслят себя «Страной живых», в которой Смерть, вступая в единоборство с Жизнью, часто проигрывает и отступает («Мокшанский парень и смерть», «Сураля», «Кудадей», «Канява», «Кастуша»). Человек, осознавая себя частью народа, гордится принадлежностью к нему и наполняется его силой («Сабан», «Кудадей», «Арса», «Са-манька»). Женщина сама творит свою судьбу, так как уже по факту рождения наделена героическими, т. е. творительными, качествами («Литова», «Азравка», «Саманька»).
Жизнь народа в эпосе проходит во времени и в пространстве, которые имеют как абстрактные, так и совершенно конкретные очертания. Между людьми, временем и пространством существует связь. Время и пространство господствуют над человеком, но и он в своем сознании управляет ими. В этой обоюдной взаимосвязи движется и развивается Жизнь.
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.486-494
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Образ жизни в эпосе "Масторава" А. М. Шаронова
- Арзамазов А. А. Контексты художественно- ронова // Ежегодник финно-угорских иссле-го обновления национальной литературы: дований. 2020. Т. 14, № 3. С. 557-559. DOI: моногр. Ижевск: Шелест, 2018. 290 с. 10.35634/2224-9443-2020-14-3-557-559.
- Арзамазов А. А. Художник, создавший 3. Гагаев А. А., Гагаев П. А., Бочкарева О. В. эпос. Отзыв на эпос «Масторава» А. М. Ша- Философия эрзянского эпоса - «Масторава» А. М. Шаронова // Наука и культура России: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. Самара, 2014. С. 88-90.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. «Масторава» А. М. Шаронова в лингвистической теории дискурса и текста // Русский язык и ономастика в поликультурном образовательном пространстве Юга России и Северного Кавказа: проблемы и перспективы: сб. материалов XI Междунар. науч. конф. Майкоп, 2017. С. 140-145.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм: эпос, лирика, театр. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 281 с.
- Гудкова С. П. Образ Эрзянии в поэтическом осмыслении А. М. Шаронова // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 1. С. 107-109.
- Гудкова С. П. Художественное осмысление эрзя-мокшанской мифологии и фольклора в героической поэме Мордовии (на материале поэмы А. Шаронова «Кудадей») // Полиэтнич-ный мир Евразии: проблемы взаимовосприятия: сб. ст. по материалам докл. Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Ижевск, 2016. С. 415-422.
- Гудкова С. П., Хозяйкина А. В. Особенности развития книги стихов в современной русскоязычной поэзии Мордовии (на материале поэтических книг А. М. Шаронова «Монологи» и С. Ю. Сеничева «ВИНоГРАДвШО-КоЛАДе, или Словосложение») // Вестник угроведения. 2021. Т. 11, № 1. С. 16-24. DOI: 10.30624/2220-4156-2021-11-1-16-24.
- Домокош П. Об эпосе и фольклоре финно-угорских народов // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Искусство и дизайн. 2005. № 12. С. 9-13.
- Ингл О. П. «Масторава» А. М. Шаронова // Шаронов А. М. Масторава. Tallinn, 2014. С. 520-524.
- Ингл О. П. Проблема кризиса патриархального правления в эпосе «Масторава» // Финно-угорский мир. 2016. № 3. С. 40-43.
- Ингл О. П., Шаронов А. М. «Калевала» и «Масторава»: в фокусе фольклорной типологии // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. Т. 16, № 4. С. 188-192.
- Кудрявцева Р. А. Топос «мир» в контексте авторской аксиологии в современной марийской поэзии // Litera. 2019. № 4. С. 51-69.
- Кудрявцева Р. А., Кузнецова М. Н. Мордовский эпос «Масторава» А. Шаронова (к во-
- просу о типологических чертах книжной формы эпоса финно-угорских народов) // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 3. С. 479-488. DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-3-479-488.
- Миничкина В. П., Руськина Е. С. Эпос как фактор формирования этнической идентичности личности (на примере Республики Мордовия) // Финно-угорский мир. 2019. Т. 11, № 1. С. 93-106. DOI: 10.15507/20762577.011.2019.01.093-106.
- Наумкин В. В., Шаронова Е. А. «Масторава»: космос и социум // Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2022. С. 3-15.
- Федосеева (Шаронова) Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция: моногр. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 212 с.
- Шаронова Е. А., Ингл О. П. «Калевала», «Ка-левипоэг», «Масторава»: эпико-исторический диалог: моногр. Саранск: Изд-во Мордов. унта, 2017. 147 с.
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Основные концепты эрзянской мифологии // Вестник угроведения. 2019. Т. 9, № 2. С. 328-339.
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. О специфике мировоззрения эрзянских и мокшанских семейно-брачных мифов // Филология: научные исследования. 2021. № 8. С. 1-13. DOI: 10.7256/2454-0749.2021.8.36164.
- Шкалина Г. Е., Кудрявцева Р. А. Культурфи-лософский контекст аксиосферы марийской литературы // Вестник Марийского государственного университета. 2022. Т. 16, № 3. С. 386-396. DOI: 10.30914/2072-6783-2022-163-386-396.
- Inter-etnic relations in the Mordovian folklore / E. A. Sharonova, A. M. Sharonov, T. N. Belyaeva. etc. // Proceedings of INTCESS 2018 -5th International Conference on Education and Social Sciences, 5-7 February 2018, Istanbul, Turkey. Istanbul, 2018. P. 146-151.
- The Erzya and Moksha plots about the family and conjugal relations of Gods and people / E. A. Sharonova, A. M. Sharonov, R. A. Kudryavtseva, etc. // Proceedings of SOCIOINT 2018 - 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018, Dubai, U. A. E. Dubai, 2018. P. 131-137.
- ^e mythological plots about the creation of the world and human beings in the Erzyan epic, Mastorava / E. A. Sharonova, O. Y. Osmuhina, S. P. Gudkova, etc. // Revista de Letras. 2016. Vol. 56, no. 1. P. 83-102.