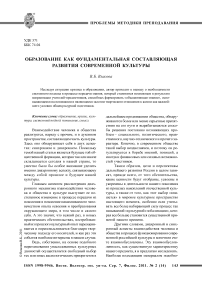Образование как фундаментальная составляющая развития современной культуры
Автор: Власова В.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Проблемы методики преподавания
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуя ситуацию кризиса в образовании, автор приходит к выводу о необходимости системного подхода в процессе передачи знания, который становится возможным в результате координации учителей-предметников, способных формировать «объединяющее знание», осно- вывающееся на понимании и являющееся залогом творческого отношения к жизни как важней- шего условия общекультурной подготовки.
Образование, кризис, культура, системный подход, понимание, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/14974444
IDR: 14974444 | УДК: 371
Текст научной статьи Образование как фундаментальная составляющая развития современной культуры
Взаимодействие человека и общества реализуется, наряду с прочим, и в духовном пространстве, составляющем часть культуры. Здесь оно обнаруживает себя в двух аспектах: синхронном и диахронном. Поскольку темой нашей статьи является будущее той общественной формации, которая так или иначе складывается сегодня в нашей стране, то уместно было бы особое внимание уделить именно диахронному аспекту, связывающему между собой прошлое и будущее нашей культуры.
Главным аспектом рассмотрения диах-ронного механизма взаимодействия человека и общества в культуре выступает ее постепенное изменение в процессе передачи из поколения в поколение накапливаемого человечеством опыта освоения и преобразования окружающего мира, в том числе и самого себя. А это значит, что всякий раз, в новых практических обстоятельствах, востребованный из прошлого культурный опыт переоценивается и переосмысливается благодаря творческому подходу его носителей, и как раз эти события наиболее интересны в нашем случае.
Ведь, собственно, на основе подобного перетолкования унаследованных культурных данностей осуществляется свободный выбор тех или иных аксиологических приоритетов в дальнейшем продвижении общества, обнаруживаются более или менее серьезные препятствия на его пути и вырабатываются способы решения постоянно возникающих проблем – социального, политического, нравственного, научно-технического и прочего характера. Конечно, в современном обществе такой выбор неоднозначен, и поэтому он ре-зультируется в борьбе мнений, позиций, а иногда и финансовых или силовых возможностей участников.
Таким образом, цели и перспективы дальнейшего развития России в целом зависят, прежде всего, от того обстоятельства, какие ценности будут отобраны, усвоены и укоренены в деятельности нашего поколения из прошлых накоплений отечественной культуры, а также от того, как этот выбор «впишется» в мировое культурное пространство настоящего момента, особенно если учитывать все более набирающий силу процесс так называемой «культурной глобализации», которая все больше становится существенной приметой нашего времени.
Другими словами, диахронный и синхронный аспекты взаимодействия человека и общества в процессе функционирования современной российской культуры в конечном счете взаимообусловлены. Эту взаимообусловленность, как существенную характеристику нашего предмета, я и предлагаю исследовать. Наиболее подходящим материалом подобно- го исследования мне представляется такая фундаментальная составляющая культурного процесса, как образование, так как в этом ракурсе наиболее отчетливо просматриваются все предпосылки и перспективы развития, все преимущества и слабости нынешнего состояния взаимодействия человека и общества в нашей культуре.
Образование – это огромное проблемное поле для теоретических и практических разработок в условиях современной культуры, которое заслуживает отдельного специального обсуждения с учетом тех наблюдений и выводов, которые были продемонстрированы в прошлом году, объявленном в России Годом образования. В данном случае я остановлюсь только на нескольких особо актуальных, с моей точки зрения, моментах.
Сначала приведу несколько методологических замечаний по поводу самого понимания образования как одного из моментов культуры, обеспечивающих ее прогрессивное развитие. В широком, точнее в универсальном смысле слова образование включает в себя не только, а может быть и не столько эрудицию (в наше время функцию эрудита выполняют «электронные справочники»), сколько нравственное воспитание в ходе приобщения к общечеловеческим ценностям мирового культурного опыта, а также выработку способности ставить познанию актуальные вопросы, а главное – формирование творческого подхода к окружающему миру и к решению задаваемых им человечеству задач. А такая миссия образования предполагает гарантию свободного диалога педагога и учащегося как равноправных участников дискуссии, открытость и доступность познавательного материала.
XXI век представляет для осуществления этих целей необходимые и достаточные технические условия. Гораздо сложнее сегодня в России с экономическими и финансовыми возможностями. Но самое трудное дело – преодоление чиновничьего менталитета, включающего в себя косность, инертность, а часто и просто профессиональную несостоятельность (у нас, как правило, чиновниками становятся педагоги-неудачники). Но что хуже всего для дальнейшей судьбы образования, а следовательно, и всей культуры в нашей стране – это корыстолюбие наших чинов- ников и вытекающая из него коррумпированность высшего эшелона министерской власти, заражающая этой болезнью все слои общества в той мере, в какой им приходится сталкиваться с проблемами образования.
Такая ситуация приводит к тому, что в труднейших обстоятельствах постперестроечного кризиса в мире духовных ценностей нашего народа российская школа не выработала массовых способов сохранить, восстановить все лучшее из утраченного или вырастить новые ценностные ориентиры, позволяющие гуманизировать отечественную практику во всех ее отраслях. Чаще всего мы имеем дело с потерей или вырождением того важнейшего нравственного потенциала, который был накоплен нашей культурой в предшествующие столетия. Это касается не только языка (где Иваны, родства не помнящие, наиболее очевидны) или засилья худших проявлений массовой культуры во всех сферах нашей повседневной жизни, но прежде всего отказа от моральных идеалов (речь, конечно, не о политизированных лозунгах коммунистической идеологии, насаждавшихся в течение 70 лет советской власти), которыми жил и гордился народ и на основе которых была создана великая культура прошлого.
Конечно, нам необходима реформа образования, чтобы привести в порядок, гармонизировать, «окультурить», если будет позволено так выразиться, тот хаос, который стал результатом, с одной стороны, крушения заидеологизированной советской концепции образования, а с другой – бурного роста тех тенденций в нашей образовательной системе, которые, мимикрируя под деидеологизацию учебного процесса и обеспечение свободы выбора его участников (учителей, учеников, родителей), способствуют коммерциализации учебных заведений на всех уровнях, от детсадов до вузов, и превращают, таким образом, работников просвещения в «обслугу».
К сожалению, у нас в России и здесь «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Я имею в виду одно из самых ярких проявлений этого правила – введение единого государственного экзамена (ЕГЭ), с которым я знакома не понаслышке. Одним из главных оснований для введения такой формы контроля знаний учащихся было похвальное стрем- ление изжить коррупцию и облегчить финансовое бремя иногородним абитуриентам. На деле ЕГЭ стал еще большим поводом для коррупции. Раньше необходимо было искать подходы для подкупа экзаменаторов в чужом городе. Теперь это стало гораздо проще сделать в родном. При этом тестовая форма экзаменов примитивизирует задачу: написать «липовое» сочинение хлопотно, а поставить галочку – пара пустяков.
Финансовая сторона, вопреки ожиданиям, наоборот, усложнилась. Прежде абитуриентам приходилось 1 раз съездить в чужой город, потратившись на билет. Сейчас надо оплачивать постоянные «репетиции» ЕГЭ в течение не одного года. Причем качество получаемых на них знаний весьма сомнительно, так как вопросы ЕГЭ охватывают только формализуемый материал и, соответственно, предполагают однозначный, формализованный, зазубренный ответ. В результате выхолащивается творческое содержание экзамена, а на фоне все увеличивающегося процента платного обучения в вузах ЕГЭ становится препятствием для талантов, которые не могут в таких узких рамках проявить себя. Побеждает бездарность с хорошей памятью. И это в лучшем случае. В худшем студентами становятся безграмотные и тупые дети толстосумов.
Самое неприятное и негативное с точки зрения последствий описанной выше ситуации для перспектив развития нашей страны, независимо от ее формационной принадлежности, состоит в том, что процесс образования медленно, но верно дегуманизируется . Вместо содержательного дискуссионного общения педагога с учениками насаждается формализация, деперсонификация учебного процесса, нацеленная на механическое запоминание дат, имен, формул и законов (которые можно легко узнать в Интернете), без их понимания, осмысления и оценки, которые только и могут породить творческое отношение к миру и людям, а значит, дать стимул к формированию свободной личности активного гражданина, способного к самостоятельному созиданию, то есть к культуротворчеству в подлинном смысле этого слова.
В итоге выхолащивается творческое содержание работы и ученика, и учителя. Учеб- ный процесс приобретает форму «дрессуры», а, как известно, если познание не обременено творческой компонентой, оно становится тяжелой психологической нагрузкой для обучаемого, который не видит смысла в обучении, раздражается и протестует в доступных ему не всегда гуманных формах. Поэтому страдает и дисциплина в школе, замыкая порочный круг от непонимания к нежеланию и, далее, соответственно, к незнанию. Знание обесценивается, творчество замещается голым потребительством. О каких перспективах культуры можно здесь говорить?
На противоположной стороне взаимосвязи «педагог – учащийся» дела обстоят не менее скверно. Здесь дегуманизация образовательного процесса приводит к вымыванию творческого содержания работы учителя. Ориентируясь не на подлинно важные и нужные знания (и уж тем более не на понимание), а на «баллы», заработанные в ходе ЕГЭ, он вынужден переориентировать не только свои методики, но и программы обучения, сокращая их, чтобы найти дополнительное время на «прогоны» ЕГЭ в течение всего учебного года. Лишаясь живого общения с учениками в ходе освоения такой программы, учитель не имеет возможности привлечь их симпатии к своему предмету, стать для них «властителем дум», как это бывало в дореволюционной и даже в советской школе. Но самое страшное, что он сам деградирует как профессионал, становясь придатком, «винтиком» в огромном чиновничьем механизме «реформы» образования.
В качестве заключения хотелось бы выразить надежду, что «умный, бодрый наш народ» поймет грозящие ему опасности культурной деградации, верно оценит их вред (и не только в сфере образования) и найдет в себе силы и способы так построить нашу жизнь (и в экономическом, и в социальном, и в духовном плане), чтобы мы могли продолжить лучшие традиции нашей культуры, обогатить их новыми достижениями на благо прогресса собственного Отечества и всемирного куль-туротворчества.
Мне бы хотелось обратить ваше внимание на исторический аспект проблемы, не уходя при этом в далекое, дореволюционное прошлое России. Речь пойдет о последних 25–30 годах образовательной политики нашего государ- ства, поскольку здесь я владею материалом, обобщающим мой собственный педагогический опыт преподавания философии не только в аспирантуре Института философии, но и в гимназии им. Пушкова г. Троицка, где я веду философию и культурологию вот уже 20 лет.
Что прежде всего бросается в глаза, когда мы обращаемся назад, в «трудные» девяностые годы? Как это ни странно, в области духовного производства было гораздо легче работать, интереснее, а главное, учитель и преподаватель высшей школы ощущали свою полезность, необходимость в обществе, с одной стороны, и достаточно широкую свободу для эффективной реализации своего предназначения. Особенно ярко это проявлялось в отношении социально-гуманитарного знания, которое в долгие времена застоя было обречено на идеологический контроль подцензурного существования.
Главной задачей перестройки была именно деидеологизация социокультурной проблематики в российском образовании – от детского сада до занятий с аспирантами. При этом важным моментом было не только освобождение от вездесущей цензуры, но и расширение базы гуманитарного творчества – открывались для свободного доступа архивы, спецхраны, появилась возможность в любое время обратиться к зарубежным источникам и т. д. Не последнюю роль в «демократизации» процесса образования в целом сыграл также тот факт, что отныне преподаватели, учителя, педагоги других направлений получили возможность самостоятельно строить программу своей творческой работы, разумеется, в пределах координации с планами своих коллег.
Конечно, такая ситуация породила множество злоупотреблений, мошенничества и коррупции, в частности на первых порах, когда все российское государство постперестроечного периода было еще не вполне определившимся в своих ценностных приоритетах, а отечественная экономика переживала эпоху «первоначального накопления», однако во всяком деле бывают нездоровые отклонения и неприятные, заранее не учтенные или не подлежащие учету следствия. Но это вовсе не повод отказываться от общего, так необходимого для выживания страны в целом дела обеспечения ее процветания и развития в бу- дущем. Надо только внимательно изучить недостатки и достоинства избранного пути и умело обходить препятствия или по возможности вообще их устранять.
Но в России, как правило, привыкли «рубить с плеча». Вдобавок если это «плечо» принадлежит чиновнику, то можно утверждать с большой долей вероятности, что победит бюрократия, а не интересы дела. На поверхности «революционной деятельности функционеров по преобразованию педагогических установок и обеспечиванию реализации» творческих замыслов людей, действительно озабоченных прогрессом народного образования в нашей стране, остались громкие лозунги о свободе, гарантиях доступности и уважении к подвижникам российской школы. В глубине же «борьбы за европейский и мировой уровень» стандартов образования процветает рутина, чтоб не сказать, некомпетентность, а иногда и сознательное противодействие эффективным творческим начинаниям, граничащее с вредительством. Если внимательно проанализировать результаты, то окажется, что все то лучшее, что действительно было гордостью народного образования в СССР, было сведено на нет, так как «вместе с водой выплеснули и ребенка».
Прикрываясь благими пожеланиями снизить нагрузку на учащихся, в школах сокращают количество необходимых для обязательного обучения дисциплин, а главное, снижают качество их преподавания, отводя творческую энергию учителя в русло так называемых факультативов и идя при этом на поводу у родителей, играя, по сути дела, роль «обслуги» от образования. Но родители ведь далеко не всегда могут оценить пользу и важность тех или иных, особенно гуманитарных предметов. Вместо того чтобы заботиться о глубине творческой направленности педагогической деятельности, чиновники от образования, которые либо не преподавали сами вообще, либо ушли из школы, не справившись с трудным делом педагога, «рисуют графики» и ведут подсчеты баллов, полученных учениками в ходе так называемого тестирования, ничего общего не имеющего с выявлением действительного уровня знаний ребенка, тем более его возможностей и перспектив. Особенно губительно это сказывается именно в сфере социально-гуманитарного знания, плохо поддающегося формализации и требующего подробного разговора с экзаменующимся.
Другие аргументы в пользу новой системы образования сводятся к «усилению борьбы с коррупцией» и увеличению доступности высшего образования в отдаленных регионах страны. По этому поводу можно сказать только то, что с введением пресловутого ЕГЭ коррупция только усилилась: раньше надо было еще найти человека, который стал бы посредником при даче взятки, и рисковать очень большими деньгами для поступления в ВУЗ. Сегодня же процедура упростилась до крайности: учителя, которые заинтересованы в определенном количестве баллов у своих учеников, поскольку в этом количестве фиксируется оценка их работы, договариваются друг с другом бесплатно по схеме «ты мне, я тебе». Что же касается отдаленных районов, то нужно там строить больше вузов и позаботиться о том, чтобы в них работали высококвалифицированные кадры, используя при этом различные стимулы, в том числе жилье и зарплата. Кроме описанных выше проблем «организационного» характера (хотя это определение адекватно реальному смыслу рассматриваемого явления), существуют еще и чисто профессиональные методологические вопросы, которые тоже все чаще в последнее время решаются «с кондачка», без глубокого анализа их содержания, без внимания к творческой инициативе «снизу», так что рамки индивидуальной свободы преподавателя все более сужаются, и «общегосударственный стандарт обучения» превращается в журнал, которым укоряют или пугают, а чаще всего превращают его в «священную корову», в то время как он на самом деле требует постоянного обновления, по крайней мере в деталях, чтобы успевать за быстро изменяющейся жизнью вокруг. Но, с другой стороны, это отнюдь не значит, что нужно постоянно «реформировать» наше образование целиком, изнуряя его бесконечными и столь же бессмысленными «экспериментами», которые только по форме напоминают кипучую деятельность, а по содержанию оказываются «толчением воды в ступе».
Как лично мне представляется направление, в котором с методологической точки зрения должно развиваться наше социально-гума- нитарное образование, в частности в начальной и средней школе? Главной задачей, как мне кажется, должно стать формирование у учащегося системного подхода к знаниям, которое начисто бы исключило превращение сознания ученика в компьютерную базу данных, где каждая «справка» существует сама по себе, без связей с остальными сведениями. А такой подход к обучению возможен только при условии координации действий разных «предметников» единого социально-гуманитарного комплекса – историков, литераторов, языковедов, философов, культурологов и т. п. Программа обучения, курс преподавания отдельного предмета должны вырабатываться в ходе коллективного обсуждения содержания отдельных тем с целью выявления двух точек пересечения, которые могут становиться опорными в ходе изучения каждой из дисциплин и образовывать, так сказать, «зародыши» для кристаллизации «структурной решетки» знаний социокультурного направления в целом.
При осуществлении такого подхода к требованиям современного образовательного процесса само собой установится и отношение к так называемым внешкольным мероприятиям, когда они будут проводиться не «для галочки» в отчетах школьных инспекторов Министерства образования, а отражать реальные потребности школьных коллективов. Соответственно изменится и отношение детей к этим мероприятиям. И тогда не нужно будет проводить их во время школьных занятий, жертвуя для этого программными уроками курса по тому или иному предмету (а чаще по нескольким предметам сразу, из которых не все даже принадлежат к гуманитарным). Учащиеся не будут воспринимать внешкольные мероприятия как угрозу собственному досугу. Он станет для них желанным, интересным, объединяющим полученные на разных уроках знания в единую систему, которая как раз и позволяет вырабатывать творческое отношение к миру, формирует частные способности и увлечения ребенка как следствие его общей культурной подготовки.
В заключение хочется сказать то, что, по сути дела, должно было быть преамбулой моего выступления. Я глубоко убеждена, что смыслом и сутью отечественного социальногуманитарного образования должно стать вос- питание творческих способностей учеников от мала до велика, которые станут базой для эффективной практической деятельности будущих активных граждан нашей страны, в центре которой будет не только стремление к собственному финансовому благополучию, сколько забота о благе Отечества. Для реализации такого замысла необходимы не просто прочные знания, но и понимание тех великих гуманистических ценностей, которые на протяжении всей истории человечества составляли основу мировой культуры.
EDUCATION AS A FUNDAMENTAL PART
OF CONTEMPORARY CULTURE DEVELOPMENT