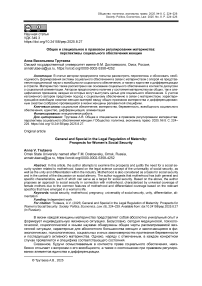Общее и специальное в правовом регулировании материнства: перспективы социального обеспечения женщин
Автор: Трутаева А.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автором предпринята попытка рассмотреть перспективы и обосновать необходимость формирования системы социального обеспечения в связи с материнством с опорой на представления юридической науки о всеобщности социального обеспечения, а также о единстве и дифференциации в отрасли. Материнство также рассмотрено как основание социального обеспечения в контексте дискуссии о социальной алиментации. Автором предположено наличие у состояния материнства как общих, так и специфических признаков, каждые из которых могут выступать целью для социального обеспечения. С учетом изложенного автором предложен подход к социальному обеспечению в связи с материнством, характеризующийся всеобщим охватом женщинматерей ввиду общих признаков материнства и дифференцированным охватом сообразно проявившейся в жизни женщины релевантной специфики.
Социальное обеспечение, материнство, беременность, всеобщность социального обеспечения, единство, дифференциация, алиментация
Короткий адрес: https://sciup.org/149148922
IDR: 149148922 | УДК: 349.3 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.27
Текст научной статьи Общее и специальное в правовом регулировании материнства: перспективы социального обеспечения женщин
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, ,
В жизни каждой женщины материнство представляет собой абсолютно уникальный опыт и формирует индивидуальную жизненную ситуацию. Безусловно, сегодня медицинской, психологической, социологической и иными науками обнаружены общие черты рассматриваемой жизненной ситуации, характерные для абсолютного большинства женщин и заключающиеся в физиологических, психологических, социальных и иных закономерностях протекания беременности и последующего активного материнства. Однако, наряду с отмеченным, в каждом конкретном случае проявляется и специфика соответствующего состояния.
Сказанное, будучи осмысливаемым в контексте права социального обеспечения, неизбежно отсылает к вопросам о его всеобщности, а также о соотношении при правовом регулировании элементов единства и дифференциации.
Всеобщность рассматривается в науке права социального обеспечения в качестве одного из отраслевых принципов1. Для рассмотрения содержания данного принципа определяющими по значимости выступают: круг лиц, претендующих на социальное обеспечение; юридический факт-основание социального обеспечения и набор конкретных мер последнего, направленных на ми-нимизацию/компенсацию последствий реализации социально-рискового события. По мнению Е.Е. Мачульской, всеобщность априори обращается к проблеме круга обеспечиваемых лиц, предполагая полный (или наибольший) охват социальным обеспечением лиц с идентичной жизненной ситуацией - аналогичным фактическим составом, релевантным социальному обеспечению. Е.А. Истоминой при этом подчеркнуто, что всеобщность социального обеспечения не может пониматься буквально: она наиболее полно отвечает интересам и потребностям граждан, однако в поле принципа всеобщности весьма активно присутствует и публичный интерес, заключающийся в сочетании достаточности социального обеспечения с недопущением неоправданных расходов на таковое (Истомина, 2014: 204). С точки зрения Н.В. Антипьевой, принцип всеобщности в праве социального обеспечения означает равную для всех возможность получить определенные виды социального обеспечения ввиду наступления конкретных юридических фактов вне зависимости от пола, расы, иных незначимых в контексте права социального обеспечения факторов (Антипьева, 2013: 12). Похожее значение придал началу всеобщности социального обеспечения исследовательский коллектив В.С. Аракчеева, Д.В. Агашева и Л.А. Гречук: данный принцип, с позиции авторов, гарантирует всем нуждающимся равные возможности прибегнуть к помощи государства2. Как отмечает Е.И. Бутенко, всеобщность выражается в том, что право охватывает все возможные ситуации, когда человек по объективным причинам поставлен в условия нуждаемости (Бутенко, 2010: 198).
Впоследствии Н.В. Антипьевой, как представителем юридической науки, специализирующемся на вопросах единства и дифференциации в поле социального обеспечения, было замечено, что в тесной связи с всеобщностью в праве социального обеспечения находятся принципы единства и дифференциации (Антипьева, 2013: 13). По мнению исследователя, единство, выступая частью отраслевых особенностей метода и основополагающих начал права социального обеспечения, охватывает необходимость нормативного установления оснований и условий социального обеспечения, позволяющих добиться наиболее полной защиты граждан от различных социально-рисковых ситуаций. Дифференциация же, согласно позиции Н.В. Антипьевой, учитывает особенности этих социально-рисковых ситуаций и специфику правового статуса лиц, нуждающихся в защите от социальных рисков. Так, единство правового регулирования служит всеобщности социального обеспечения. Как, представляется, служит таковой и выверенная, концептуально непротиворечивая дифференциация, призванная дать формируемой системе социального обеспечения наиболее «точное наведение». В совокупности единство и дифференциация призваны формировать обоснованное, действительно необходимое и достаточное социальное обеспечение в максимальном соответствии с реальными обстоятельствами жизни лица. Следовательно, главным отправным моментом для рассмотрения юридического факта-состояния материнства в контексте всеобщности социального обеспечения, его единства и дифференциации выступает сочетание общих и специфических жизненных обстоятельств, возникающих с наступлением рассматриваемого состояния.
Анализируя принцип единства в праве социального обеспечения, Н.В. Антипьева подчеркивает, что право на социальное предоставление возникает в определенных социально-рисковых ситуациях (Антипьева, 2016). Так, наступление беременности (то есть начального этапа материнства) во всех случаях требует усиленного полноценного питания, защиты от стресса и чрезмерных физических и психологических нагрузок, медицинского и психологического сопровождения, заключающегося далеко не только в диагностике состояния беременной женщины, но и в коррекции, терапии. Указанные меры становятся необходимыми всем беременным женщинам вне зависимости от присущих им имущественного статуса, занятости и профессии, семейного положения, возраста и т. д. Полученные сегодня результаты исследований в области медицины и психологии свидетельствуют о том, что от своевременности и достаточности перечисленного зависит состояние как самой беременной женщины, так и плода (ребенка). Впоследствии, по мере развития плода, с рождением ребенка потребность в усиленном и полноценном питании у кормящей матери не прекращается, как не исчезает и потребность в медицинском и психологическом сопровождении. Действительно, содержание указанных требуемых мер несколько изменяется, что логично следует преобразованию жизненной ситуации женщины-матери. Вместе с тем и послеродовое состояние, и состояние кормящей матери (нередко совпадающие, пусть и не во всех случаях) требуют активной доступной медицинской помощи. В период вынашивания беременности и в связи с родами женский организм неизбежно претерпевает существенные нагрузки, следствием чего выступают различные патологии1 (См., напр.: Тихонова и др., 2019: 64; Диков и др., 2022: 99). Пережив беременность и роды, женщина, как правило, испытывает потребность в полном и своевременном обследовании и последующей медицинской помощи сообразно тем нарушениям, которые возникли в связи с названными процессами и событиями. Аналогичный вывод возможно сделать и в отношении состояния психики женщины-матери (Мазо и др., 2009: 34). Безусловно, какая-то часть таких социально значимых потребностей женщин-матерей в силу положений федерального законодательства об охране здоровья граждан удовлетворяется благодаря возможностям существующей системы государственных гарантий в сфере оказания медицинской помощи. Вместе с тем остается по-прежнему весьма напряженным и актуальным вопрос доступности и достаточности объемов медицинской помощи в целом, даже без акцента на медицинской помощи женщинам-матерям. Таким образом, общие тенденции существования отечественной системы государственных гарантий в области охраны здоровья граждан налагают ощутимый отпечаток на доступность и достаточность медицинской помощи в послеродовой период. В свете сказанного необходимо заметить, что ситуация с реализацией права на медицинскую помощь женщинами-матерями в послеродовой период не слишком отличается от подобной ситуации и на иных этапах материнства.
Необходимо отметить, что характер и состав социально значимых потребностей женщины-матери, возникающих в течение периода с момента принятия решения о сохранении и вынашивании плода до завершения выполнения материнских биологических и социальных функций в отношении ребенка/детей после его/их рождения, требует подробного исследования и уточнения. Соответствующий анализ будет способствовать четкому определению содержания и объема мер социального обеспечения в связи с состоянием материнства. Представляется, что в части универсальных, общих для всех женщин социально значимых потребностей в связи с материнством подход к правовому регулированию должен демонстрировать единство и гарантировать всеобщность: уже на сегодняшнем этапе развития представлений науки очевидно, что все матери (независимо от имущественного, семейного положения, отношения к труду и т. д.) должны иметь доступ к полноценному питанию, эффективному и своевременному медицинскому и психологическому сопровождению (то есть к достаточному объему компетентных услуг соответствующих направлений). Необходимость единства социального обеспечения женщин-матерей подчеркивается в отраслевой науке на протяжении десятилетий, однако на сегодняшний день предлагаемый подход так и не обрел своего полноценного воплощения (Азарова, 2022: 81; Она же, 1989: 95).
Одновременно с рассмотренными выше общими для каждой женщины социально значимыми эффектами состояния материнства проявляется и специфика такового. Рассматриваемые особенности связаны со специфическими чертами жизненной ситуации, отдельными элементами статуса женщины-матери: ее профессии и занятости, имущественного положения, состояния здоровья, возраста, семейного статуса и др. Данные специфические черты имеют социальную природу: они производны от социальных факторов (например, таких как брак и семья, труд, участие в экономике, возраст, состояние здоровья) и обусловливают негативные эффекты социального характера в жизни женщины (провоцируют одиночество, бедность, риски для здоровья, невозможность реализации прав и т. д.). Наукой рассматриваемая специфика нередко квалифицируется как причина для маркировки беременности или материнства как рисковых. Так, в медицине беременность несовершеннолетней или женщины с инвалидностью именуется рисковой. Представляется, что подобный характер приобретает, например, и материнство малоимущей женщины. В описанных случаях специфические черты жизненной ситуации женщины-матери способны ухудшить ее имущественное, социальное положение, поставить под угрозу здоровье, жизнь, материальное благополучие и соответствующие жизненные перспективы в сравнении с жизненной ситуацией женщины-матери, у которой подобные обстоятельства не возникли. В частности, женщина с инвалидностью ввиду заболевания опорно-двигательного аппарата в течение послеродового периода вскармливания ребенка может наряду с общими «материнскими» потребностями в усиленном питании нуждаться и в специальных технических решениях для кормления ребенка с учетом своих физических возможностей и т. п.
Действующие нормативные правовые акты в области социального обеспечения сегодня реагируют на некоторые такие специфические обстоятельства в жизни женщины-матери. Так, например, обязательное социальное страхование охватывает трудящихся женщин на случай беременности, родов и ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; система посо- бий гражданам, имеющим детей, предусматривает предоставляемое по правилам «нулевого дохода» ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и т. д. При этом легальный исчерпывающий перечень таких специфических обстоятельств не утвержден и не может быть получен путем анализа действующего правового регулирования, а подход законодателя к социальному обеспечению в рассматриваемых ситуациях возможно назвать фрагментарным. Это естественно, поскольку фундаментальный подход требовал бы на начальной стадии масштабного исследования жизненной ситуации женщин-матерей в различных вариантах ее проявления, анализа самих специфических факторов и их влияния на социальное благополучие женщины, а впоследствии - поиска и установления эффективных мер социального обеспечения. В отечественной науке права социального обеспечения было неоднократно высказано мнение о том, что система социального обеспечения женщин-матерей не должна ограничиваться только трудящимися женщинами, тогда как социальное благополучие и здоровье неработающих женщин не составляют предмет заботы со стороны государства (Азарова, 2022: 81). Как уже указано выше в настоящей статье, в целом данная позиция заслуживает всесторонней поддержки - с тем лишь уточнением, что одно не должно исключать другого, и подходы не должны противопоставляться: социальное обеспечение женщин-матерей должно предполагать и универсальный, и специальный варианты, сообразно общим и уникальным обстоятельствам соответствующей жизненной ситуации. В последней части социальное обеспечение должно выстраиваться с дифференциацией по объективным социально значимым признакам.
Рассмотрение вопроса о социальном обеспечении в связи с материнством неизбежно требует обращения к дискуссии о социальной алиментации в праве социального обеспечения, возвратности и эквивалентности такового. Советской отраслевой наукой подчеркивался распределительный характер социально-обеспечительных отношений. Т.В. Иванкина отмечала: несмотря на то, что единственной равной по отношению ко всем членам общества мерой является участие в труде (то есть т. н. принцип распределения по труду), общество все же состоит далеко не только из трудящихся, объединяя последних с лицами еще нетрудоспособными или уже утратившими трудоспособность. Ориентиром такого распределения в рамках социального обеспечения автор считала некую потребность, уточняя, что речь идет о потребности общества, проистекающей из публичной заинтересованности в обеспечении всестороннего развития физических и духовных способностей всех членов общества (Иванкина, 1979: 12). В продолжение взглядов представителей отраслевой юридической науки, материнство причислялось и Р.И. Ивановой к основаниям распределения не по труду с комментарием о том, что контингент социального обеспечения - особый, и в отношении такого круга лиц распределение по труду далеко не всегда обоснованно (Иванова, 1986: 22). Е.Г. Азаровой и М.И. Полупановым подчеркивалось, что средства социалистических общественных фондов используются и должны продолжать использоваться для социальной защиты, в том числе материнства, и в этом заинтересованы государство и общество (Азарова, Полупанов, 1981: 35). Так, отраслевой механизм распределения средств общественных фондов традиционно признавался несущим отпечаток специфики, обусловленной состоянием и потребностями получателей, а также целями, стоящими перед социальным обеспечением, в связи с этим.
Отраслевая специфика распределения в рамках социального обеспечения связывалась исследователями в том числе с категорией социальной алиментации (с алиментарностью предоставления). Через выражение «долженствования в обеспечении, а не подачки» алиментарный характер распределения в социальном обеспечении описал еще В.С. Андреев1. По мнению М.И. Полупанова, алиментарный характер социального обеспечения воплощает в себе органическое единство физического и правового аспектов: физический аспект иллюстрирует достаточность социального обеспечения для физической жизни получателя, а правовой аспект предполагает гарантированность сохранения жизнедеятельности лица (Полупанов, 1969: 106). При этом такая алиментация как бы обусловлена самой природой социально значимых оснований (например, речь идет о деторождении), вызывающих потребность лица в благах и услугах на специфических началах, а не по труду (Иванова, 1986: 60). Действительно, на бесплатные2, безэквивалентные, безвозмездные (Полупанов, 1968: 27) начала использования общественных фондов в контексте социального обеспечения внимание исследователей обращено на самых ранних этапах пути отраслевой юридической науки. Применительно к материнству и деторождению чаще всего социальная алиментация связывалась наукой именно с распределением не по труду (безвозвратным). При этом безвозвратность означает обеспечение без возложения на гражданина-получателя заранее или впоследствии каких-либо обязательств по обмену, возмещению общественным фондам произведенных расходов3 (Федорова, 2003: 62). Указанный подход не характерен всему объ- ему социально-обеспечительного правового регулирования сегодня, однако применительно к социальному обеспечению в связи с материнством по общим для всех получателей основаниям он представляется сохраняющим свою актуальность. Установление зависимости факта и объема социального обеспечения женщины в состоянии материнства от факта и объема участия ее в общественно организованном труде или от иных обстоятельств, не связанных напрямую с самим состоянием материнства, не отвечает как интересам женщины-матери, так и публичным интересам, требующим безопасности и благополучия сначала плода, а затем ребенка. Кроме того, в описанном поле фигурируют и интересы ребенка, едва ли допускающие справедливую зависимость от конкретных фактов жизни матери.
В дополнение к сказанному необходимо поддержать позицию, занятую Д.В. Агашевым: действительно, трактовка социальной алиментации исключительно через безвозвратность и без-эквивалентность достаточно прочно укоренилась в отрасли, однако она является ограничительной, поскольку смысл социальной алиментации – в том числе и в достаточности социальных предоставлений (Агашев, 2018: 66). В продолжение идей советской отраслевой науки необходимо понимать социальную алиментацию не только как безвозвратность, но и как достаточность для жизни. По справедливому замечанию Д.В. Агашева, отмеченное требует презумпции стандартности основополагающих потребностей человека в определенном состоянии нуждаемости, что отсылает в очередной раз к исследованию содержания, структуры и объемов потребностей женщин в состоянии материнства.
Изложенное говорит о многоаспектности материнства как состояния каждой женщины, и сосредоточение внимания науки на нем, в том числе на его общих и специфических сторонах, на путях обеспечения его благополучия, будет служить повышению уровня социальной защищенности далеко не только женщин-матерей, но и детей. Кроме того, как указано выше, отмеченное в полной мере согласуется и с публичными интересами: социальное благополучие материнства на всех его этапах на началах всеобщности, с оптимальным (с отраслевой точки зрения) сочетанием единства и дифференциации может рассматриваться как одна из гарантий стабильности социально-экономического развития России.