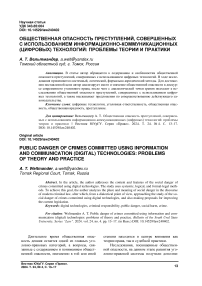Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий: проблемы теории и практики
Автор: Вельтмандер А.Т.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обращается к содержанию и особенностям общественной опасности преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. В ходе исследования применяются системный, логический, формально-юридический методы. Для достижения поставленной цели автор анализирует место и значение общественной опасности в дискурсе современного уголовного права, после чего с диалектической точки зрения подходит к исследованию общественной опасности преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, а также высказывает предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Цифровые технологии, уголовная ответственность, общественная опасность, общественная вредность, преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/147247422
IDR: 147247422 | УДК: 343.85:004 | DOI: 10.14529/law240402
Текст научной статьи Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий: проблемы теории и практики
Длительное время общественная опасность деяния остается одной из главных уголовно-правовых категорий, а вопросы, связанные с содержанием и пониманием общественной опасности, неизменно в той или иной степени находятся в центре внимания как теории права, так и судебной практики.
Исследования, посвященные общественной опасности, на данном этапе развития уголовно-правовой системы получили дополни- тельный импульс, обусловленный как новыми подходами в теории, так и существующими (административная преюдиция) или только намечающимися (уголовный проступок) [4, c. 335] изменениями в законодательстве, а ношениями (в том числе определенными цифровизацией).
Вместе с тем ряд до конца нерешенных проблем, связанных в первую очередь с межотраслевым характером данной юридической категории, продолжает оказывать влияние на формирование спорных подходов в теории и практике. К одной из таких давних проблем относится соотношение общественной опасности и общественной вредности деяния.
К общественной опасности (как обобщающей правовой категории) с известной долей профессионального скептицизма относились С. Н. Братусь, Д. Н. Бахрах и многие другие правоведы, утверждая, что материальные признаки преступлений и правонарушений значительно отличаются. Некоторые из них (например, Н. Н. Вопленко, В. А. Хохлов) и вовсе говорили о том, что категория общественной опасности не имеет содержательного наполнения и нуждается в поиске адекватной замены (в частности на общественную вредность).
Однако, предлагая вместо общественной опасности иные правовые категории, данные правоведы неизменно сталкивались с тождественными проблемами в формировании универсального юридического института, которые также пытались нивелировать рядом допущений. И, в итоге, такие «понятийные революции» сводились, как правило, к замене определяемого термина, а не к изменению существа исследуемого предмета.
Таким образом, отход от основополагающего понимания общественной опасности, искусственное разделение материальных признаков преступлений и других правонарушений неизбежно приводят к практическим и теоретическим проблемам, разрешение которых потребует больших усилий, нежели следование традиционному подходу. В частности отрицание общественной опасности правонарушений создает неопределенность в применении положений о малозначительности и в уголовном (ст. 14 УК РФ), и в административном праве (ст. 2.9 КоАП РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ сущность малозначительности состоит именно в отсутствии общественной опасности при формальном наличии элементов состава преступления у совершенного деяния. При этом отрицание общественной опасности у административных правонарушений неизбежно ставит вопрос о правовой оценке указанного деяния исходя из положений КоАП РФ.
Наряду с вопросами межотраслевого характера, связанными с общественной опасностью, в рамках самого уголовного права также возникает немало проблем, которые до настоящего времени не получили своего однозначного разрешения. Представляется, что некоторые из них носят в значительной степени надуманный характер, другие – напротив, обусловлены сложностью общественной опасности как комплексной, неоднородной категории.
Одним из по-настоящему сложных вопросов, касающихся общественной опасности, является вопрос о содержании критериев, определяющих общественную опасность преступлений. Традиционно к таким критериям относят степень и характер общественной опасности. Вместе с тем содержание указанных критериев не всегда являлось неизменным как в теории права, так и в практике правоприменения. В частности, в настоящий момент содержание характера и степени общественной опасности определено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58, где характер общественной опасности ставится в зависимость от признаков преступления, направленности посягательства на конкретные ценности и блага, а степень этой опасности определяется способом совершения преступления, формой вины, характером и размером вредных последствий, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание (ст. 61, 63 УК РФ).
Ранее в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 20 (в настоящий момент утратило силу) содержались несколько иные разъяснения. Степень общественной опасности определялась в зависимости от обстоятельств содеянного (способа совершения преступления, тяжести последствий, размера вреда, степени осуществления преступного намерения, роли подсудимого при совершении преступления в соучастии и др.). Характер общественной опасности зависел от объекта посягательства, формы вины и категории преступления.
С одной стороны, данные изменения носят несущественный характер, с другой - показывают нестабильность в понимании общественной опасности в целом и ее содержания в частности, что в свою очередь позволяет некоторым правоведам высказывать предложения о необходимости отказаться от общественной опасности как признака преступления с одновременным расширением определения противоправности.
На наш взгляд, указанный подход основан на ограниченном понимании содержания и сущности противоправности и общественной опасности, не имеет под собой опоры на философское обоснование объединения указанных категорий. Противоправность и общественная опасность не существуют в безусловном разрыве друг от друга (то есть образуют диалектическое единство) однако, в своем генезисе и базе они имеют различные основания (социальное и формальное). Это в целом отражает сущность диалектики любых явлений. При этом основополагающей характеристикой общественной опасности является поставление в опасность важных общественных отношений посредством появления реальной возможности причинения (или фактического причинения) существенного ущерба социальным ценностям и благам, при которой без привлечения лица к ответственности с целью защиты этих отношений не обойтись.
К наиболее общим критериям проявления общественной опасности можно отнести: увеличение значимости преступных последствий (вреда, ущерба) с учетом социально-экономических особенностей развития общества на отдельном историческом этапе [1, с. 16]; последовательную направленность лиц на совершение однородных проступков (административная преюдиция), относительную распространенность деяния, указывающую на невоз можность борьбы уголовно-правовыми методами с единичными отклоняющимися от принятой нормы поступками.
Все эти критерии в той или иной степени (за исключением административной преюдиции) повлияли сначала на оформление в УК РФ специализированной главы, посвященной преступлениям в сфере компьютерной информации (гл. 28), а в дальнейшем на рост числа составов преступлений, где использование информационно-телекоммуникационных технологий становилось элементом объективной стороны и, как следствие, находило свое отражение в уголовном законодательстве в качестве отдельного квалифицирующего признака [2, c. 14].
В настоящий момент в гл. 28 УК РФ закреплены пять статей (272, 273, 274, 274.1, 274.2), предусматривающих ответственность за: неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации; нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования. При этом две последние статьи введены в УК РФ в 2017 и 2022 гг. и направлены в первую очередь на обеспечение общественной безопасности.
Однако указанная глава, представляя собой «ядро» для соответствующей категории преступлений, вовсе не исчерпывает всех последствий цифровизации общественной жизни.
Не меньшее значение для формирования понимания общественной опасности имеет вторая группа преступлений, квалифицирующим признаком которых является их совершение с использованием цифровых технологий. В зависимости от объекта эти преступления можно разделить на: преступления против государственной власти, мира и безопасности человечества (отдельные положения ст. 280, 354.1 УК РФ); преступления против общественного порядка и безопасности (отдельные положения ст. 205.2, 222, 230, 242 УК РФ); экономические преступления (отдельные положения ст. 158, 159 УК РФ); преступления против личности (отдельные положения ст. 110, 133, 151.2 УК РФ).
Значительное количество указанных норм и общий подход к их формулированию позволяют говорить о том, что появление такого квалифицирующего признака, как использование информационно-коммуникационных технологий, отражает не только фактическое увеличение числа соответствующих преступных деяний, но и, в принципе, обусловлено
«проникновением» цифровизации во все сферы общественной жизни.
Более того, правоприменительная практика в ряде случаев позволяет утверждать, что сам по себе рост тех или иных способов совершения преступлений (в том числе с использованием цифровых технологий) не всегда с неизбежностью должен приводить к увеличению их общественной опасности и пенализации деяния. При этом обращение к историческому опыту показывает, что нередко первоначальная воля законодателя в силу особенностей юридической техники или иных причин преломляется в реальное правовое регулирование в несколько ином виде.
Например, с целью борьбы с «карманными кражами» в ч. 2 ст. 158 УК РФ был предусмотрен квалифицирующий признак – из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Вместе с тем объем применения данного квалифицирующего признака в итоге не ограничился только «карманными кражами».
Наиболее очевидным примером применительно к исследуемой теме является закрепление в уголовном законодательстве кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Таким образом, тяжким преступле- нием стало хищение даже незначительных денежных сумм, если оно совершено с использованием соответствующих способов.
На наш взгляд, появление в уголовном законе преступлений, совершаемых с применением цифровых технологий, новых исключительно по способу их совершения, но не отличающихся от иных деяний по характеру и степени общественной опасности, само по себе часто не является достаточным основанием криминализации или пенализации [5, с. 128; 3, с. 57]. Для этого способ совершения преступления должен обладать той степенью значимости для реализации преступного намерения, когда при его изменении в значительной степени теряется возможность причинения соизмеримого ущерба общественным отношениям. В частности, незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, безусловно, упрощает совершение самого деяния, делает возможной массовую реализацию наркотических средств.
Только комплексный подход к определению общественной опасности преступных деяний, в том числе связанных с информационно-коммуникационными технологиями, позволит выстроить понятную и рациональную систему наказаний в Особенной части УК РФ.
Список литературы Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий: проблемы теории и практики
- Архипов А. В. Цифровые объекты как предмет хищения // Уголовное право. 2020. № 6 (124). С. 16-23. EDN: IBQMOF
- Вельтмандер А. Т. Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий // Уголовная политика в условиях цифровой трансформации: сб. статей материалов II Всероссийской научно-практической конференции. Казань: Отечество, 2023. С. 11-16. EDN: RJHAPJ
- Каракулов Т. Г. К вопросу о допустимости лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за киберпреступления // Уголовная политика в условиях цифровой трансформации: сб. статей материалов II Всероссийской научно-практической конференции. Казань: Отечество, 2023. С. 52-59. EDN: QKVSUS
- Наумов А. В. Уголовный проступок или преступление небольшой тяжести: терминологическое или принципиальное различие? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М., 2019. С. 335-338.
- Уткин В. А. Факторы пенализации и международное уголовное право // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 128-137. EDN: TYYYEJ