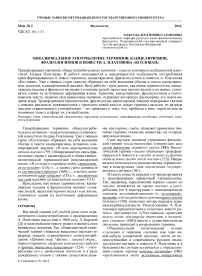Окказиональное употребление терминов, канцеляризмов, фразеологизмов в повести А. Платонова «Котлован»
Автор: Семенова Ольга валентиновнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Трансформация терминов, общеупотребительных штампов - одна из ключевых особенностей идиостиля Андрея Платонова. В работе описываются и анализируются особенности употребления трансформированных и новых терминов, канцеляризмов, фразеологизмов в повести А. Платонова «Котлован». Уже с первых строк повести обращает на себя внимание обилие в тексте канцеляризмов, штампов, клишированной лексики. Цель работы - проследить, как новая терминология, канцелярская лексика и фразеология меняют сознание людей, насколько прочно входят в их жизнь, становятся одним из источников деформации языка. Термины, канцеляризмы, фразеологизмы в платоновском тексте, изменяя свое привычное значение, отражают авторскую философию, его новое видение мира. Трансформация терминологии, фразеологии, канцелярской лексики неразрывно связана с новыми реалиями, появившимися с приходом новой власти: новые термины выходят из разряда лексики ограниченного употребления - это приводит к тому, что, прибегая к ним, герои не всегда понимают смысл и сферу их употребления.
Окказиональная синтагматика, нарушение сочетаемости, трансформация устойчивых сочетаний, идиостиль платонова
Короткий адрес: https://sciup.org/14750649
IDR: 14750649 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Окказиональное употребление терминов, канцеляризмов, фразеологизмов в повести А. Платонова «Котлован»
Трансформация терминов, общеупотребительных штампов – одна из ключевых особенностей идиостиля Андрея Платонова. Уже с первых строк «Котлована» обращает на себя внимание обилие в тексте канцеляризмов, штампов, клишированной лексики: « В день тридцатилетия личной жизни » (79)1. Обнаруживается связь фразеологии героев с канцелярской и общественнополитической терминологией революционной эпохи: « Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию » (114); «… у лампы сидел активист за умственным трудом » (169); « …я тебя в мобилизованный кадр зачислю » (135); «… постановил для себя перейти на инвалидную пенсию » (113).
Проследим, как новая терминология, канцелярская лексика и фразеология меняют сознание людей, насколько прочно входят в их жизнь, становятся одним из источников деформации языка.
ТЕРМИНЫ
Научный термин (об особой роли слов ограниченного словоупотребления в произведениях А. Платонова писал еще в 1966 году Л. Боровой [2]) в платоновском тексте может изменять свое привычное значение. Так, общеизвестный химический термин «тяжелые вещества» выходит из разряда лексики ограниченного словоупотребления: « Пройдя двор, Чиклин… завалил дверь… битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом » (124) – употребление его с необычным эпитетом и в ряду однородных членов с такими существительны-
ми, как кирпич , глыбы, изменяет привычное значение термина «тяжелые вещества» на «старые, ненужные вещи».
Свое научное значение утрачивает физический термин « сила тяжести » (« терпеливо шли силой тяжести мертвого груза » (88)). Биологический термин « место обитания » трансформируется в повести в « место жизни » (« Девочка обошла новое место своей жизни » (122)). Неправильно используется экономическая терминология в конструкции « для обеспечения государственного темпа » (101).
В тексте повести нередки случаи разрушения и трансформации привычной терминологии. Так, например, юридический термин « право на жизнь » изменяется на « право жизни », а употребление его в конструкции с окказиональным глаголом исходатайствовать (« … исходатайс-твовать себе посредством мучения право жизни бедняка » (139)) позволяет автору передать идею надындивидуальности. Использование А. Платоновым прилагательного неимущее вместо рабочее , пролетарское ( « Рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье » (106)) вместе с существительным движение приводит к разрушению термина.
Общеизвестный политический штамп «элемент» в значении «человек как член какой-нибудь социальной группы», почти не использующийся в современном русском языке, достаточно активен в повести А. Платонова и в большинстве случаев встречается с определяющим словом: «прочие неясные элементы» (180); «представится туда жалобным нетрудовым элементом» (93); «Тот закон для одних усталых элементов»(94); «А тут покоится вещество создания и целевая установка партии - маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом!» (126); «кроме... покорности слепого элемента» (182). Такое частое и обычно трансформированное использование терминов («классовый элемент», «кулацкий элемент») свидетельствует о том, что человек, неоднократно наделяясь отрицательной характеристикой («этот дворовый элемент есть смертельный вредитель» (140); «...да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента» (130)), воспринимается не как личность, а лишь как составная часть механизма. Необычность употребления термина элемент в тексте повести еще и в том, что, во-первых, он может находиться в нестандартном окружении: «...среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам » (185), а во-вторых, употребляться по отношению к ребенку, что, с точки зрения узуальных норм, недопустимо: «...приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего» (122). Интересно отметить, что сочетания из общеупотребительной политической фразеологии типа «отсталый элемент», «кулацкий элемент» в повести не встречаются.
Окказиональные терминологические сочетания, встречающиеся в повести, в большинстве своем употребляются с компонентом из общеизвестной терминологии (например,« социальный », « буржуазный », « пролетарский » и др.): « социальная радость» (111); « буржуазная мелочь » (121); « передовой ангел » (114); « членская беднота » (153); « членская масса » (159); « пролетарский талант » (101); « пролетарская масса » (110), (131); « пролетарская совесть » (113); « пролетарская вера » (99); « пролетарская польза » (100)2; « классовая жизнь » (120); « классовый излишек » (104); « классовое поколение » (130); « классовый старичок » (142).
Новые термины отражают авторскую философию, его новое видение мира: « максимальный класс » (« Жачев... посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса » (106)); « батрачье сословие » (130); « фактический житель социализма » (126) (о девочке); « очищенные от кулачества массы » (164); « или имел подкулацкую долю жизни » (150). Они наделяются дополнительной коннотацией, как отрицательной, так и положительной: ср. « Давно пора кончать зажиточных паразитов ! <.. .> Где ж тогда греться активному персоналу ! » (133).
Еще одна особенность употребления терминов в том, что в одном предложении может концентрироваться сразу несколько новых, платоновских, терминологических сочетаний: «В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа ума»(79); «.оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство»(125).
КАНЦЕЛЯРИЗМЫ И ШТАМПЫ
Канцелярские обороты, наряду с языком радио, директивы, новыми политическими понятиями, являются, по мнению П. А. Бодина, одними из главных источников деформации языка героев [1]. Такой же позиции придерживаются и другие исследователи языка А. Платонова (М. Ю. Михеев [6], В. В. Буйлов [3]).
Иностилевые вкрапления, в частности введение в речь повествователя и героев канцеляризмов, одновременно сопровождаются разрушением уже знакомых и традиционных оборотов: общеупотребительное канцелярское выражение « предпринимать усилия » заменяется окказиональным образованием « предпринимать дисциплину » (100); « принять меры » - « принять линию » (110) («... думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции »); известное сочетание « в лице кого-то » преобразуется у Платонова в « в форме чего-то »: «. необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетариата » (116) (вместо « в лице ребенка »); по аналогии с известными сочетаниями « нанести ущерб », « принести вред » у Платонова появляется «допустить вред » (111); «нести ответственность » - «нести должность » (111).
Канцелярские штампы типа «линия партии и государства », характеризующие нечто общее, у Платонова преобразуются в сочетание « линия прораба » (111), которое характеризует уже индивида.
Употребляющиеся в единственном числе выражения типа « средний человек », « средний класс », « середняк » в повести встречаются во множественном числе: «средние люди » (168); « средние мужики » (187); « средние единоличники » (147).
К общеизвестному канцелярскому штампу « взять на заметку » добавляется еще один компонент - окказиональное существительное «организационность». В результате привычное сочетание трансформируется в новую конструкцию « всю организационность на заметку возьму » (138).
В повести появляются и индивидуально-авторские выражения, которые можно квалифицировать как канцеляризмы: «Прушевский определил Чиклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку » (101); « детский персонал » (127); « казенный инвалид » (139); « продолжал лежать умолкшим образом » (137) (= « тихо »); « развивали дальнейший темп праздника » (166).
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Устойчивые выражения также подвергаются трансформации: « бросать слова на ветер » трансформируется у Платонова в сочетание « бросать свои выражения » (121), « ощутил ход времени» – « почувствовал долготу времени » (120), « предчувствуя долготу времени » (141); « кричать во всю Ивановскую » – « кричать… во всю деревню » (180); « болеть душой » – « поболит душой » (137). По аналогии с сочетанием « до потери памяти » у Платонова возникает оборот « истомить себя до потери души » (170].
Фразеологически связанное лексическое значение глагола изменяет привычный контекст: по аналогии со словосочетанием из книжной лексики « разверзнется пропасть » в повести появляется конструкция « разверзла беззубый темный рот » (118), описывающая высоким слогом бытовую ситуацию, а также сочетания « разверзая земную тесноту вширь » (185) и « там он снова начал разверзать неподвижную землю » (187). Изменяется и привычное окружение у фразеологически связанного прилагательного « насущный »: по ассоциации с устойчивым оборотом « хлеб насущный » рождается окказиональное сочетание « насущное имущество » (153).
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ И НОВЫХ ТЕРМИНОВ, КАНЦЕЛЯРИЗМОВ, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
-
1. Общеупотребительные общественно
-
2. Некоторые конструкции образованы по аналогии с известными канцелярскими оборотами, терминами и фразеологизмами (один из исследователей языка Платонова И. И. Матвеева вводит термин «малопропилическая замена», когда говорит о соединении различных устойчивых выражений [4]): глагол « жить , существовать » заменяется автором на конструкцию « поддерживать себя » (97), образованную по аналогии с сочетанием типа « поддерживать кандидатуру при голосовании »; « руководящий
-
3. Употребление терминов, канцеляризмов и фразеологизмов в необычном окружении: « ударил какой-то инстинкт в голову » (87); « желание наибольшей общественной пользы » (114); « желание утихло в нем без последствий » (153); « Перестань брать слово » (108).
-
4. Изменение узуального значения. Привычное значение собирательного неодушевленного существительного мелочь (= мелкие предметы, деньги ) в контекстах повести приобретает иное, терминологическое значение: « люди низкого общественного положения ». В словосочетании « буржуазная мелочь » (121) собирательное существительное мелочь получает метафорическое значение: мелкие (телом) и мелочные (душой) людишки буржуазной эпохи. Такое же собирательное значение у существительного «мелочь» с ярко выраженной отрицательной коннотацией в предложении « Стихни, темная мелочь ! » (110). А вот в предложении « …а я с товарищем Пру-шевским хожу, как мелочь между классов , и не вижу себе улучшения!.. » (101) оценка героя уже идет не со стороны, а от самого себя, причем тоже с негативным оттенком4.
-
5. Рождение новой риторики революционной эпохи: « беспрерывное геройство » (140); « усердная беззаветность » (140); « энтузиазм несокрушимого действия » (136).
-
6. Демонстрация абсурдности ситуации: « Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! » (120), « в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма » (144).
-
7. Изменение представления об окружающем мире. Введение в текст авторских канцелярских оборотов показывает нам объекты природы не как естественные явления, не подчиняющиеся человеческой воле, а как нечто организованное: « …спустились в овраг, в котором содержалась вода » (145).
-
8. Слова с абстрактным значением, входящие в состав канцелярского оборота или термина, конкретизируются: « чертил дорогую генеральную линию вперед » (153); « …надо бы установку на Козлова взять , он на саботаж линию берет » (113). Очевидно, что под « установкой » и « линией » подразумеваются конкретные понятия, которые без необходимых комментариев остаются абстрактными наименованиями.
политические термины, штампы, канцеляризмы нередко лежат в основе авторских метафор. Устойчивое терминологическое сочетание « научная мысль », трансформируясь, легло в основу метафорической конструкции « пошевельнулось научное сомнение » (101) – можно провести аналогии сo словосочетаниями « поселилось сомнение » и « зашевелилась мысль ».
Появившееся у Платонова терминологическое сочетание « инерция самодействующего разума » (102) помогает увидеть процесс, при котором сознание уподобляется механизму.
Иногда в основе содержащего термин словосочетания лежит генитивная метафора (подробнее о генитивной метафоре у А. Платонова см. [5]): « Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало… » (102).
человек » (152) по аналогии с « руководящий работник ».
Термин « общеполезная жизнь » вторгается в религиозное представление о « высшей жизни »3 в конструкции « отошел в высшую общеполезную жизнь » (114), в которой, проведя параллель с известным фразеологизмом « отойти в вечность », мы можем проследить, как противоположные понятия «жизнь» и «смерть» становятся тождественными.
Таким образом, трансформация терминологии, фразеологии, канцелярской лексики неразрывно связана с новыми реалиями, появившимися с приходом новой власти: новые термины выходят из разряда лексики ограниченного употребления – это приводит к тому, что, прибегая к ним, герои не всегда понимают их смысл и сферу употребления. Новые слова, относящиеся к общественно-политической терминологии революционной эпохи, настолько прочно вошли в сознание людей, что даже о любви герой говорит, как о чем-то официальном, легализованном: «Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме» (132).
Список литературы Окказиональное употребление терминов, канцеляризмов, фразеологизмов в повести А. Платонова «Котлован»
- Бодин П.А. Загробное царство и Вавилонская башня: О повести Платонова «Котлован»//Классицизм и модернизм: Сб. ст. Тарту, 1994. С. 168-183.
- Боровой Л. Язык писателя: А. Фадеев, Вс. Иванов, М. Пришвин, А. Платонов. М.: Сов. писатель, 1966. 220 с.
- Буйлов В.В. Андрей Платонов и язык его эпохи//Русская словесность. 1997. № 3. С. 30-34.
- Матвеева И.И. Комизм языка персонажей Андрея Платонова//Русская речь. 2001. № 4. С. 12-17.
- Михеев М.Ю. Жизни мышья беготня или тоска тщетности? (метафорические конструкции с родительным падежом)//Вопросы языкознания. 2000. № 2. С. 47-70.
- Михеев М.Ю. Портрет человека у Андрея Платонова//Логический анализ языка. Образ человека в языке. М.: Индрик, 1999. С. 356-366.